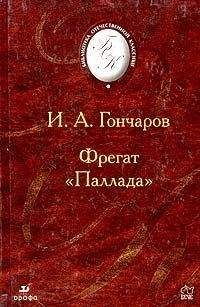Борис Мисюк - Час отплытия
Романиха смотрела на нас красными от бессонницы глазами (перегруз — работа ответственная, ей не до сна).
— Кто был при драке в трюме, остаться.
Бригада зашевелилась, затопала в дверях, и скоро в каюте осталось всего несколько человек.
Романиха, не садясь, рванула белую телефонную трубку, набрала двухзначный номер и сказала всего одно слово!
— Зайди!
Через минуту вошел Шахрай. Как всегда, он был в капитанской форме, но необычно жизнерадостен. Улыбка в серых стальных глазах совершенно преображала его нервное, бледное лицо и очень гармонировала с золотополосыми капитанскими погонами на прямых, как рея, плечах. Он сел у стола, рядом с Насировым, продолжая улыбаться далекой улыбкой, отзвуком какого-то приятного и веселого разговора. И даже крабий взгляд Романихи, холодный и укоризненный, не смог до конца погасить ее.
— Ну что, гвардейцы, — начала Романиха, — два в драку, третий — в с…?
Мне показалось, она смотрела при этом только на меня, и я по обыкновению ответил ей пристальным взглядом. Моложавое для сорокапятилетней женщины лицо ее напомнило мне мордашку одной девчонки-сортировщицы из нашей бригады. Та точно так же, хоть и на четверть века была моложе, умела материться с совершенно целомудренной физиономией, ругалась за дело, и это ей даже шло. «Не заглядывайся на Катю Шахрай», — вспомнил я совет Невельских старожилов и непроизвольно улыбнулся.
— Чего лыбишься? — тут же вскинулась на меня Романиха.
— Вспоминаю, — соврал я, — как Насиров обнимал его ноги.
Я кивнул на Колю, и она обратилась к нему:
— Что, бугай, кулаки чешутся?
Коля исподлобья с вызовом взглянул на нее, снова потупился и медленно, вперевалку, сменил ногу.
— Чем ты недоволен? — не отставала Романиха. — На берег захотелось?
— Да списывай, че уж, — раздув ноздри и не поднимая глаз, проговорил Коля.
— Романовна, — поспешил вступиться Валентин, — я говорил вам раньше, что его смена, — он мотнул головой в сторону сидящего Насирова, — не оставляет задела? Говорил.
— Не помню, — сказала Романиха.
Валентин замолчал. Молчание было грозным. Стал слышен перестук бондарных молотков за иллюминатором.
— Ну ладно. — Романиха опустила глаза и занялась ногтями, давно не знавшими маникюра. — Дальше что?
— А дальше вот что! — продолжал бригадир, хрипло рубя фразы. — Мы каждую смену! Не дорабатываем сколько-то бочек! Чтоб подготовить сменщикам цех! И сделать задел! А они нам — вот! — Валентин свернул мощный кукиш и ткнул в сторону Насирова. — Они «забывают»!..
— Они, так и есть, азартней вас работают. — Романиха почти с любовью глядела на черную насировскую голову, — что ж тут удивительного?
— Да они оборзели! Азарт на чужом горбу! — не выдержал один из парней. — Вот идем сейчас в трюм, Романовна, сами поглядите: просвет забили — где полегче, за рекордом гонят, а нам — под забой…
— А ты молчи, гвардеец! — обрезала Романиха. — Тебя пока не спрашивают.
— А че затыкать? — поддержал другой, сорокалетний матерый мужик. — Совесть он на Кавказе оставил, — кивок на Насирова, — а тут работать надо, не рвать!
— И ты помолчи! — привычно огрызнулась Романиха.
Насиров при упоминании о Кавказе встрепенулся, поднял голову. И это словно разбудило всех сразу. Заговорили нестройным возбужденным хором.
— Совести нету!..
— Всю путину — одно…
— Гнать таких из бугров!
— С флота вообще…
— Тихо! — рявкнула властно Романиха.
И тогда встал Шахрай. Простер руки перед собой, и восемь золотых капитанских нашивок, по четыре на каждом обшлаге, как Нептунов жезл, вмиг усмирили зыбь.
— Базар, ребята, кончайте, — спокойно и твердо сказал он. — Идите работать. А ты, Катя, накачай мастеров, чтоб смотрели за сдачей смены, за этим, — он кивнул на Насирова, — «рекордсменом».
Глаза у Романихи побелели. И все же она сдержалась, только отвернулась к столу и сплюнула (на ее «тьфу» уже никто не обратил внимания) и принялась нашаривать под бумагами свои папиросы.
Мы гуськом протолкнулись в дверь и двинулись по узкому коридору к трапу. Передние, загрохотав сапогами по ступенькам, уже смеялись, радуясь быстрой разрядке. И вдруг за моей спиной раздалось;
— Волнов!
Я остановился, как пригвожденный. Капитан подошел, глядя мне в лицо с откровенным любопытством в упор, как вчера на мостике. И неожиданно взял меня под руку.
— Зайдем, — Шахрай указал на дверь своей каюты. И мы пошли. Домыслы одолевали меня все эти два десятка шагов.
Быстрым взглядом окинул я шикарную каюту — панели и стол красного дерева.
— Садись, — сказал Шахрай.
Я опустился на край дивана.
— Не знал я, что у меня на борту свой, так сказать придворный, поэт есть, — с улыбкой продолжал Шахрай. И тут я увидел в его руках свою «Стрелу в небо».
— Придворным никогда не был, — пробормотал я в палубу, но быстро поднял голову, услышав звук, похожий на приглушенный зуммер. Это заработал репитер руля на переборке, стрелка его ползла по циферблату: плавбаза разворачивалась.
— Ладно, ладно, я пошутил, — сказал капитан. — А пишешь ты — молодец… Особенно этот вот, «Бригада нулевого пирса», мне понравился. Отличный стих! — Он открыл страницу:
— И смотрит грузчик Робинзоном на выходные маяки… Работой, потом стихи пахнут. Хорошо… И море чувствуется настоящее, не взбитое, как сливки, из пены и чаек…
— Мерси, — бормотнул я.
— О рыбаках, наверное, новую книжку задумал, да?
Я кивнул.
— Ну, если что надо будет, — серьезно и даже чуть застенчиво сказал он, — приходи прямо ко мне, без всяких. Хорошо?
Меня вмиг осенило; Маринка! О ней! Именно сейчас! Я поднялся:
— Очень благодарен, Геннадий Алексеевич. Как раз кстати ваше предложение. Я к вам именно и собирался…
Резкий телефонный звонок вонзился в мягкую тишину каюты. Шахрай поднял трубку, а я уставился в светлый квадрат иллюминатора, выходящего на бак, где боцман возился у брашпиля.
— А «Оленек» предупредили, что ход даем? — говорил капитан. — Добро. — Он положил трубку и посмотрел на меня. — Слушаю!
Пока смотрел в иллюминатор на боцмана, я вспомнил весь разговор в каюте помполита, слова доктора о «винце» и, решив, что борьба за Маринку предстоит нелегкая, начал издалека:
— Геннадий Алексеевич, что вы скажете о Рублевском?
— Это который рыцарь-то-спасатель? — глаза Шахрая опять тронула легкая ирония. — Объявлю ему благодарность. Стоящий моряк… А вот что с его «крестницей» делать, право, пока не знаю…
— Мы дружим все трое, — обрадовался я. — Я хорошо знаю Марину, Геннадий Алексеевич, и поверьте мне, это бессовестная сплетня, что она пьет.
Капитан сел за стол, придвинул скользнувшую по стеклу бумагу, стал молча перечитывать. Мне сверху видно было, что это приказ о Маринке.
— Коновал заявил, что от нее пахло вином, — почти скорбно сказал капитан, не поднимая от бумаги глаз.
— Да он в этом, Геннадий Алексеевич, как золотарь в духах разбирается, — выпалил я.
Он взглянул на меня и снова уткнулся в приказ. И вдруг точно черт дернул меня за язык.
— Он Романихи боится, — ляпнул я, осекся и уже по инерции добавил: — Вот и врет.
Шахрай медленно поднял на меня удивленные глаза. Несколько бездонных секунд стальные глаза сверлили меня. Я выдержал этот взгляд и увидел превращение холодной стали в живое воробьиное тепло.
— А если она еще раз сиганет за борт?
— Я вам могу гарантировать, честное слово, этого не случится! — поспешно сказал я.
— Ишь ты! — Шахрай улыбнулся.
«Ура! Победа!» — радостно всплеснулось во мне и вылилось наружу несолидной улыбкой.
Он встал, прищурился, подвигал рыжими бровями, покачался с пяток на носки и раздельно, но словно обращаясь к самому себе, сказала:
— На флоте, слава богу, существует еще принцип единоначалия.
С этими словами Шахрай взял приказ, торжественно разорвал его вдоль, затем несколько раз поперек и протянул маленький пухлый квадратик мне.
— Держи на память, поэт… Ну а шефство над шефом, — и он подмигнул мне, — не оставляй: добрая дивчина.
В море просто нельзя иначе.
Не прожить стороной.
Если камень на сердце прячешь.
Тянет сердце на дно.
Послеполуденное сентябрьское солнце косо ударило в глаза, когда я вышел на палубу. Шары бочек, стоявшие здесь, перекочевали уже в трюмы «Оленька». Здесь ждали аврала желтые разбитые донники, сплющенные обручи, щепа от сепарации, клепка и раздавленное серебро селедин. Обильно политая тузлуком, палуба парила. Встречный морокой ветер трепал ядовитое марево, уносил за корму. «Весна» под ручку с «Оленьком» топала за рыбкой. Молчали лебедки, раскачивался над трюмом гак на шкентелях, поскрипывали швартовы, и было слышно, как кипящая пена от форштевня, шипя, бежит вдоль борта.