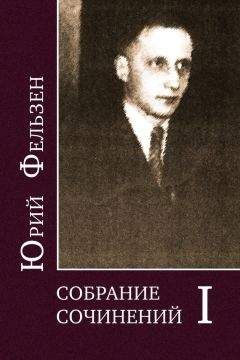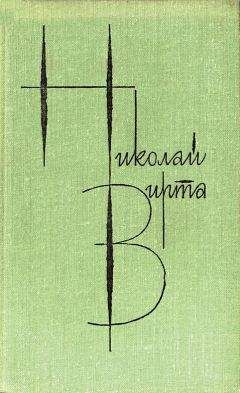Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
Но Леле я спешно отправил любезно-поздравительное письмо, и тут ей пытаясь польстить, понравиться вниманием и выдержкой, знакомой, привычной болтовней (вот вы почти «хозяйка салона»), да и Леля писала не так, как полагается счастливой невесте, молодоженам вскоре после свадьбы, довольным, упоенным собой. Ее растерянно-сердечные письма – некстати – были полны заботливо-дельными вопросами обо мне, о здоровье, о моем одиночестве («Ужасно, что я не в Париже»), и только вскользь она упоминала о свадьбе, о денежном устройстве и «приветах и пожеланиях» Павлика. Меня почему-то возмутили невинные слова об «устройстве» и косвенно, странно привели к негодующим мыслям и к зависти, к желанию – опять-таки издали, в горячем воображаемом споре – бесповоротно Лелю осудить:
– Ведь вы недавно еще говорили о совместной жизни со мной и что нам не хватает лишь денег, а в последних письмах из Канн вы мимоходом сообщаете о том, как блестяще Павлик «устроен» в богатом фильмовом деле, о его ответственной работе, о съемках на юге и будущей карьере, и с обычной бесстрашной откровенностью или наивно (тем хуже) поясняете: «Мы обязаны всем Сергею Н.» Разумеется, это вмешательство, эти его услуги и помощь были вызваны вашим заступничеством, умелыми вашими просьбами, обращенными к нему в Холливуд, и я не понимаю одного – что за меня вы не просили, не вступались в то решающе-трудное время, когда я бессильно боролся за нашу «совместную жизнь» и ничего добиться не мог из-за отсутствия чьей-либо поддержки. Вы скажете, я бы не принял протекции, услуг Сергея Н., вас любившего, хотя и неудачно, и с вами денежно-щедрого, увы, потому что он любил. Я знаю вашу снисходительность к чужим материально-житейским «компромиссам», к долгам и расходам выше средств, к непочетной Бобкиной роли, и знаю, моя щепетильность – особая, узкая, только любовная – едва ли вами оценена, как и моя искусственно-гордая и вот-вот малодушная нищета, но именно вы, умно отрицающая нелепые денежные условности, вы ни разу, пока еще не было поздно, не постарались меня образумить, вам, очевидно, вовсе не хотелось наш непрочный союз закрепить, и пожалуй – тайно от себя – вы избегали такого закрепления, сомнительно и скупо любили, и значит, я попросту выдумал всё свое убогое счастье. Однако, боясь моей щепетильности, вы явно подчеркнуто пишете об охлаждении к вам Сергея Н., что будто бы всюду нашумел его роман с немецкой актрисой и что теперь его покровительство неоспоримо-дружески-чистое и просьбы вас не унижают, но, по-моему, в ваших словах есть какая-то фальшь и подтасовка, и нужно их разоблачить. Если у нас одинаковые взгляды на то, что в любовных отношениях дозволено и что недопустимо, если и вы признаете порядочным извлекать из соперника пользу и в письмах защищаете Павлика от возможных моих обвинений, мне кажется, вы непоследовательны: не всё ли равно, кто должен помочь, кто благодетель вашего мужа-человек, неизменно вас любящий или недавно к вам охладевший и готовый таким простейшим путем отвязаться от скучных забот, раз это его покровительство в обоих случаях вызвано любовью. Если же вы с улыбкой отвергаете мою «устаревшую мораль», то были непоследовательной прежде, когда покорно, молча принимали всю нашу с вами долгую безвыходность (от стойкости, по-вашему, напрасной) и словно не хотели продлить мое счастливое, лучшее время, а оно не фантазия, не выдумка, вопреки моим сегодняшним сомнениям, и вы меня по-своему любили. Я помню грудной, дрожащий ваш голос, певучие, низкие интонации, послушно склоненную голову, необманчиво-встревоженные глаза, и для меня основное различие между вашим тогдашним чувством ко мне и теперешним, столь действенным, к Павлику – не в подлинности, даже не в степени, а в чем-то практически-внешнем, чему, пожалуй, вы удивитесь. Порой незначащая фраза, как будто лестная и милая, воскресает неожиданно в памяти – наглядно, резко и точно – и освещается вдруг по-иному: вот так – припоминая ваш голос – я отчетливо снова услыхал вашу старинную шутку о «месяце в деревне», о том, что вам хочется «раз навсегда» осуществить невыполнимую мечту, на время, на несколько недель, со мной запереться в глуши, «все бросить к черту, а там будет видно», и внезапно шутливое это желание предстало в истинном свете. У вас была упрямая цель, пускай боязливо неосознанная – меня «долюбить», как бы всего исчерпать, и затем благоразумно разойтись: вы охотно, легко поддавались моей непрерывной к вам нежности, вниманию, услугам, похвалам, но становились рассеянно-холодной, едва подымался вопрос о каких-либо решениях и планах, и меня никогда не считали своей «серьезной» жизненной опорой. В этой небрежной вашей снисходительности что-то было нелепо-обидное: я именно себя ощущал опорой, вам предназначенной – как ни странно, и в области житейской (мне казалось, попади я в колею – и преуспею не хуже других) и уж конечно в области возвышенной. Я верил, что буду надежным союзником, способным – и вдохновенно, и умело, без колебаний, без шаткости и дряблости – отстаивать нашу обособленность, прямую и ровную нашу судьбу, и с тех пор, как вы мною пожертвовали, у меня появилась потребность отыграться, достойно отреваншироваться (по детской формуле: «Я им докажу, и тогда они раскаются, но поздно»), и мстительная эта потребность неудержимо во мне возрастает. Не знаю, какой мой громкий успех – любовный, писательский, денежный – вас проймет и чего добиваться, я только знаю, что вас бы унизил таким необычайным успехом и своим превосходством над Павликом, и к этому бессильно стремлюсь, пока же единственное мое преимущество – неоцененная вами порядочность, надменная, глупая бедность, быть может, одна из тайных причин поражения в неравной борьбе.
Все это ничтожно и мелко – я, разумеется, к Леле не обращусь и Павлика не стану оговаривать, что было бы теперь, после свадьбы, запоздалой и бесполезной жестокостью – но замалчивание таких возражений, такая гневная, скрытая горечь, такая раскаленно-немая духота оказалась нечаянным поводом для множества мыслей о прошлом, к тому же прилежно додуманных в особой отрешенно-медлительной и вдохновляющей «атмосфере болезни», в одинокие, тихие, пустые вечера. Эти упорные, трезвые мысли, с безжалостным «подведением итогов», возникают сравнительно редко или же сразу незаметно вытесняются, когда – не болея ничем, не заботясь, не помня о здоровье – мы равноправно участвуем в жизни и как-то проще смотрим на мир, обыкновеннее, пристрастнее, грубее, но сейчас я ко всему подхожу неторопливо, смягченно, со стороны, и вот естественно падает гнев, первоначально меня вдохновивший, и на самые трудные вопросы при желании можно найти безутешно-правдивые и точные ответы. Их полноте нисколько не вредит преувеличенное мое благородство, неумолимая строгость к себе, снисходительность в оценке других: мы так наивно собой упоены, что даже при этих условиях равновесие еще не достигается, и есть какая-то прелесть и сила в подобной стоической внутренней позе, в соединении терпимости и мужества, в бесконечной готовности каждого щадить, не ожидая, не требуя пощады.
Вся моя молодость и зрелые годы были мучительно-возвышенно-сложны – я одинаково шел напролом, когда ненавидел и любил, затем, утомленный, добившись покоя, и от него старался уйти, а главное, я не довольствовался половинчато-скупыми отношениями, какими обычно люди довольствуются, и непомерно тяжело ощущал свое с ними явное несходство: мне казалось непонятным их умение скользить по событиям, внутренне разбрасываться, отвлекаться от самого нужного, чем-то искусственным себя утешать и мириться со всякой неудачей, и меня удивляли – огорчая – возлюбленные, немногие друзья, то устало, то резко уклонявшиеся от моих напряженных усилий, сосредоточенных всегда на одном, я нелепо отчаивался в их верности и не раз им пытался внушить непрерывную свою одержимость, но именно этой своей непрерывностью больше всего их как-то пугал, и каждый раз, после долгой борьбы, я печально в себе замыкался, подавляя брезгливую горечь, продолжая беспомощно любить (уже обостренно-безнадежно), лишь иногда возмущаясь судьбой, меня избравшей для бессмысленных опытов. Я стремился к воплощению в реальности тех любовных и дружеских чувств, которые были мне суждены, со всей их неуступчивой страстностью, и невольно переносил на окружающих непримененную в любви теплоту, однако в лучшие, редкие дни таких – мимолетных – воплощений я по-детски хотел осчастливить еле знакомых, случайных собеседников и нуждался в их ответной доброжелательности: у нас причудливо-тесно сплетаются чужое, общее – и близкое, свое – и мои самодовлеющие чувства не однажды во мне вызывали отраженную, всем предназначенную (из благодарности, порою от избытка) неистощимую душевную щедрость. По-видимому, ей предстоит еще разрастись, оторвавшись от истоков, постепенно мной овладеть, как бы «окрасить» всё мое будущее – заблаговременно, вслед за другими, я должен «переставляться на старость», заменяя эгоистически-личное великодушно-высоким и жертвенным: ведь это – единственная радость, нам доступная перед концом, и значит, опять-таки и в ней есть оттенок чего-то эгоистического. И я снова жалко теряюсь в неустранимой нашей раздвоенности, в колебаниях и вечных переменах – от себя к окружающим и к миру и от мира, от праздности, к себе. Неизбежность этих колебаний мне представляется всё же законной – нам равно и смертельно необходимы любовно-созерцательная замкнутость (изучая, творя, упиваться собой) и человеческая властная поддержка, ради которой мы идем на притворство, на лицемерие, на злостный обман, и в которой можем найти – пускай неполную – разгадку нашей сущности: так, мы часто к людям относимся чересчур терпеливо и терпимо, с какой-то напускной предупредительностью, и слитком лестно о них отзываемся (в расчете, что им передадут) не только для практических целей, из сострадания, прося о сострадании, но и от горького страха одиночества – и у других нам таинственно-враждебного – от надежды на кого-то опереться или же быть чьей-то длительной опорой. И как ни откровенно-эгоистичны первоначальные наши побуждения, мне кажется, в такие минуты мы выходим из темного строя вселенской жизни, бездушной и хищной, мы бываем (себе несомненно во вред) благороднее, участливей, нежнее, просто смелее и Бога, и судьбы, сопротивляясь повелительным инстинктам соревнования, стяжательства, зависти, желая видеть спасение там, где оно едва ли достижимо – в добровольной нашей беззащитной и круговой поруке доверия…