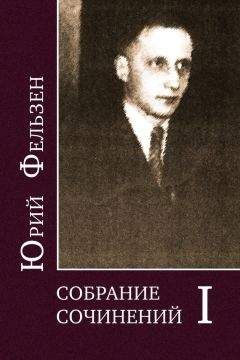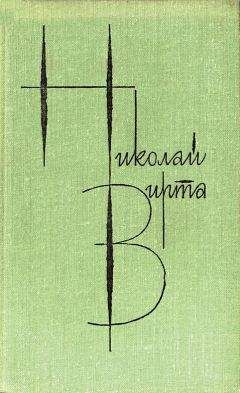Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
Чтобы опять не задалживаться в клинике – с трудом получив разрешение врачей – я переехал к Рите и Шуре, меня давно к себе приглашавшим: мне предстоит еще неделю лежать и нельзя оставаться совсем одному, хотя кое-что и позволено (ходить в уборную, на кухню) из всего, что было запрещено, и значит, милым своим хозяевам я не так уж нелепо и беспомощно в тягость. Правда, им всё же пришлось потесниться, у них квартирка из двух комнат, и лучшая, большая, уступлена мне, однако надеюсь и уверен, что скоро смогу перебраться в отель. Я рад «свободе передвижений», как радуюсь всякой удачливой мелочи, а для меня это даже не мелочь: я не привык за время болезни, за месяц жестокой неподвижности, к несносной, постыдной физической грязи, к отсутствию ванной, и уборной, к дурацкой, вынужденной зависимости от несчастных, замученных людей. Впрочем, мое прощание с ними вышло торжественным и трогательным: меня до улицы провожали и старый хирург с казачьими усами, и красивая, бойкая, румяная докторша, из-за которой я «подтягивался», и соблазнительная сестра, невольно поблекшая на свету, и мрачно-унылый санитар, и вот на улице, на носилках, перед собравшимися прохожими, я слегка был собою умилен и тайно – внутренне – расчванился. Мне всегда удивительно и лестно чужое доброе отношение, словно я как-то его заслужил: такие проводы уже бывали – после гимназии, после дачи, после военного училища – и мне тогда казалось диковинной, меня вдохновенно очаровывала эта чужая теплота, эта внезапная «популярность», как раз достигнутая мной – умышленно-замкнуто-одиноким: я очевидно не столь одинок и теплее, привязчивей, обыкновенней, чем с давних пор предполагаю, и моя деревянная прежняя сухость, вероятно, исчезла вместе с молодостью и осталась лишь в мыслях о себе, упорно цепляющихся за прошлое.
Я лежу на широком и низком диване (до меня – супружеское ложе), в небольшой, аккуратно прибранной комнате, удобной и приветливо-спокойной. У изголовья крохотный стол, на нем тускловатая лампочка (здесь вряд ли читают перед сном) и самые нужные мне вещи – книги, бритва, часы, одеколон – напротив бархатное кресло, в котором Рита подолгу сидит, оживленно со мной разговаривая и внушая мне ощущение уютно-комфортабельной прочности. Меня также весело ободряет тысячефранковка в истрепанном бумажнике: перед моим отъездом из клиники Шура неистово-азартно торговался, уменьшив долг на целую треть, и я не впервые удивляюсь точному счету любых мелочей – денег, страниц, папирос и минут. Эта новая тихая жизнь постоянно и сладостно приятна и с предыдущей просто несравнима: ведь я как бы дома, в семье, где заняты мною одним, к тому же взволнован Ритиным присутствием, непрестанной возможностью ее появлений, даже воздухом, ею проникнутым. У меня от больничной «внежизненности» появилась ненасытная потребность в осязательном женском внимании, хотя бы наивно-поддельном, а кроме Риты я не вижу никого, и поэтому на ней сосредоточилась моя нетерпеливая нежность, устранившая чувственную одержимость, еще недавно столь обостренную. Конечно, и Рита во мне возбуждает неясное глухое влечение – мы чересчур безнаказанно вдвоем, она со мной не принуждена, не стесняется, располагается слишком интимно, полуодетая, в пижаме, без чулок – и конечно, в моем положении, в такой, сближающей нас обстановке соблазнительна всякая молоденькая женщина, однако подлинное Ритино воздействие поэтическое, нежное и чистое, и для меня в ее гибкости и грации, в ее чарующей женственной мягкости (которой Леле всё же не хватает) есть что-то милое и трогательно-невинное. Я буду странно ее вспоминать: большая, изящная, «хорошая девочка», приносящая с прогулки цветы – пускай непахучие, дешевые, городские, но это ей сентиментально подходит. У меня со студенческих времен не могло быть такого поклонения – бескорыстного, по-детски беззаботного – все мои длительно-сложные «романы» были жестокими, душными, взрослыми и, как у взрослых, обоюдно-безжалостными. Незаметно и Рита вовлеклась в роль утешительницы, сиделки, подруги, и у нас бывали неловкие ожидания какой-то возможной пугающей близости, каких-то последних решительных слов, но мы смущенно, бессильно робели (одна из редких счастливых неудач), и я реально, вовне, оставался бесправно-лишним при Шуре и Рите, как когда-то при Леле и Павлике, и стоило Шуре войти – невыносимо громко и властно – и уже, расположенно-трезвая, Рита к нему начинала тянуться, с обычной слепой своей покорностью. Я постепенно себя уговорил, что сознательно Риту щажу, что она и Шура единственные друзья, меня поддержавшие в беде, что я им бесконечно обязан и просто выполняю свой долг, не поддаваясь такому искушению, но, разумеется, это обман, лицемерно-красивая поза, малодушный отказ от «честности с собой»: на самом деле я только боюсь нелепой, тягучей «истории», беспощадной Шуриной прямоты (несмотря на показной его цинизм), разрыва, чуть ли не развода и своей дальнейшей ответственности, я боюсь и Лелиных упреков, если откроются мои «отношения» с ее ближайшей, старинной приятельницей – как бы Леля со мной ни поступала, как бы она ни отрекалась от прошлого, у меня всё та же потребность ей нравиться, быть безукоризненным, готовым считаться и ждать, мне оттого по-прежнему жаль свободы, ей предназначенной, и странно, по собственной вине, лишиться остатков надежды – и вот, для себя разоблачив истинный смысл своей добродетели, свой страх перед Лелей и Шурой, я возвращаюсь к первым утверждениям (о долге, о дружбе, о признательности) и целиком их отбросить не могу. Они лицемерны и лживы, поскольку будто бы от них зависит мое поведение, однако по существу они искренни: я несомненно Шуре благодарен (без тайной борьбы с уязвленным самолюбием, без малейшей примеси горечи и злобы, а по тому, как благодарность ощущается, мы можем всегда безошибочно судить о чувстве к людям, ее вызывающим, и значит к Шуре я действительно привязан), но в нас, увы, мужская нелояльность, переходящая в грубое предательство, неизменно сильнее дружбы и долга, и всякая мужская «победа» сейчас же оправдана в наших глазах особым молодеческим тщеславием, и если я всё же устоял, не добивался успеха у Риты и не нарушил дружеской лояльности, то объясняется моя безупречность лишь житейской и любовной расчетливостью. От этих колебаний и выводов меня как-то сразу отвлекли ошеломительные сведения о Леле.
Шура, после ряда намеков (похожих на известный анекдот: «Супруг ваш болен… при смерти… умер»), мне искусственно-небрежно сообщил, что Леля вышла замуж за Павлика, и передал ее письма из Канн, от меня заботливо скрывавшиеся. Я отнесся почти равнодушно к ее непонятному замужеству, с каким-то внешним любопытством: «Ну что же, посмотрим, подождем», – и с чуть театральной иронией («Я игру давно проиграл, давно покорился неизбежности, и огорчаться снова – бессмысленно»). Мне даже стало спокойнее, уменьшилась ревнивая досада, я внутренне с Павликом мирюсь – он тоже исполнил свой долг и оказался более задетым, чем можно было предполагать (что для соперника всегда утешительно), и теперь он все-таки муж, любовно и жизненно к нему применяться отныне Лелина обязанность, а не каприз, не выбор, не страсть, и ему не стоит завидовать. И всё же этим замужеством я занят как-то по-новому – приглушенно-обиженно-сладостно – и в тоже время, словно одержимый, с навязчиво-горькой остротой, и для меня померкло, исчезло чарующее Ритино сияние, лишь только рядом возник тревожно-слепящий, терзающий блеск моего неподдельного чувства, единственно верного и нужного: оно когда-то меня захватило, при моем поощряющем согласии, и от него освободиться нельзя, как бы к этому я ни стремился. Сейчас, ни на что не надеясь, в отчаянии, в тоске, я придумал злорадно-позднее к Леле обращение и его повторяю без конца: «Милый друг, ничего не случилось, и формальная у вас перемена не кажется мне поразительной, в нашу старую, вечную тяжбу не раз уже кто-то врывался (то Бобка, то Павлик, то Шура), и всякий раз, на долгое время, без колебаний вы жертвовали мной – из-за моей ли покорной выносливости, оттого ли, что, по вашим словам, мне “эта роль”, эта отвергнутость подходит или вы просто предпочитали “других” – и если теперь узаконена очередная ваша “авантюра”, не всё ли равно, почему и на какой, неизвестный заранее срок».
Но Леле я спешно отправил любезно-поздравительное письмо, и тут ей пытаясь польстить, понравиться вниманием и выдержкой, знакомой, привычной болтовней (вот вы почти «хозяйка салона»), да и Леля писала не так, как полагается счастливой невесте, молодоженам вскоре после свадьбы, довольным, упоенным собой. Ее растерянно-сердечные письма – некстати – были полны заботливо-дельными вопросами обо мне, о здоровье, о моем одиночестве («Ужасно, что я не в Париже»), и только вскользь она упоминала о свадьбе, о денежном устройстве и «приветах и пожеланиях» Павлика. Меня почему-то возмутили невинные слова об «устройстве» и косвенно, странно привели к негодующим мыслям и к зависти, к желанию – опять-таки издали, в горячем воображаемом споре – бесповоротно Лелю осудить: