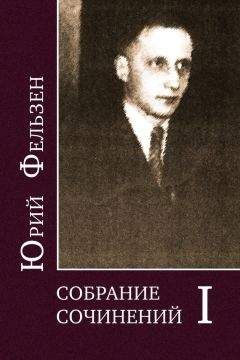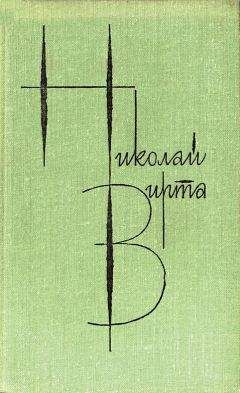Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
Разумеется, всего, чем мы задеты, никакими сложнейшими способами из памяти нельзя устранить и непосредственной «ангельской» доброты, прощающей измены и обиды, почти ни у кого не бывает, кроме разве «подвижников», «святых» и людей чересчур мягкотелых, но и мы, обыкновенные люди, с эгоистическим инстинктом самозащиты, мы тоже по-разному стремимся к очеловечению, к терпимости, к добру и приблизим их осуществление, если сумеем как-то разрядить накопленную в молчании ненависть, если найдем полновесные, нужные слова, избавляющие нас от потребности в ожесточенно-безжалостных поступках. Это не только писательское свойство – в безвыходно-тяжелые минуты все одинаково ищут друзей понятливо-сердечных и умных, и может быть, писательская склонность (пускай потенциально-дневниковая) предохраняет многих из нас от напрасных, чрезмерных излияний. Попробую кратко передать один из тех мучительных случаев, которых, при всем своем бесстрашии, я прежде коснуться не мог. Это было, когда ликвидировался ваш упрощенный с Шурой «роман», после смерти несчастного Марка Осиповича и Ритиного приезда с каникул – мы проводили с ней вместе вечера, и до сих пор меня преследует картина, отчетливо-живая, как тогда: вы у себя на кушетке, а рядом устало-доверчиво-томная Рита, наивно и нежно вам благодарная за помощь, за твердую поддержку, за Шурино решение жениться, ее лицо с закрытыми глазами покоится у вас на плече, и вы тихонько ей гладите волосы, двусмысленно Шуре улыбаясь и наслаждаясь своим торжеством. Я в тот вечер еще не догадывался о Шурином согласии жениться, об усилиях, вами примененных (да они и не смягчали происшедшего), и упивался наглядной вашей виной, мне почти сладострастно хотелось, чтобы у Риты «открылись глаза», чтобы она поняла и увидела вызывающее ваше предательство и перед всеми вас бы оскорбила – незабываемо, внезапно, осязательно, отомстив и за себя и за меня – но Рита ничего не поняла, и вы остались, как раньше, безнаказанной. Такие или схожие картины, чудовищные ваши ответы на сочиненные мною вопросы я без конца себе воображал, переводя нашу любовную борьбу из области реальной в фантастическую, однако и эти измышления были связаны с чем-то реальным и полутворчески его дополняли, мне помогая в нем разобраться, внушая несложные выводы, иногда чересчур прямолинейные. Из них едва ли не первый – что всякая женская измена непоправима, навеки непростительна: до собственного горького опыта, мечтая о высшей справедливости, я с жаром отстаивал обратное – теперь, неизбежно присмирев, я разделяю мне чуждые воззрения людей старомодных и косных, что женщин, усвоивших «мужскую психологию», нельзя, невозможно любить, остальные же нам изменяют бесповоротно, всем существом, и таких мы должны разлюбить. Это было, увы, подтверждено и вашим романом и браком, и – особенно – пьяным, шальным безобразием вашей ночи, единственной, с Шурой, несомненно, вас напугавшей, но ускорившей наше расхождение. Меня перестали возмущать и, в сущности, давно не поражают ваши упорные, частые измены, с оттенком супружеской неверности: я их заранее предвидел, готовился к уходу и к жертвам и вас не очень порицал (опять «ни прощения, ни мести»), я без рисовки искренне пытался, не осуждая, всё принимать – и вас, какою вы созданы, и любовную вашу неодаренность, постоянно меня заставлявшую любить одному и за двоих (что не искусственно и даже не смешно) – моя привязанность к вам сохранилась, вопреки моим теперешним взглядам, зато безнадежно развенчано хваленое ваше превосходство. Так я когда-то смутно оправдывал жестокости, дурные поступки, если и вы их могли совершить, и оправдывал мысли и вкусы, мне враждебные, но близкие вам – непогрешимой в чем-то основном – сейчас в безобиднейших ваших словах я ищу не то, что в них есть, а язвительно-грубые намеки, порою зависимость от тех, кого обычно я презираю. Эти придирки и это снижение – пока неуловимо, незаметно – начинают во мне разъедать столь упрямо возвышенное чувство, мои к вам суровые требования постепенно как-то слабеют, я легче мирюсь с относительным и спокойней довольствуюсь немногим. Я у себя нередко узнаю то вялое, «среднее состояние», еще не лишенное любви, однако уже не любовное, в котором недавно вас уличал, распространив его и на прошлое: мне казалось, так было всегда – что вы избегали со мною чрезмерной любовной полноты и меня в то же время удерживали, боясь и оттолкнуть и приблизить. Подобное «среднее состояние» скупее, хуже, скромнее любви – и тем защищенней и устойчивей: не от него ли и новая с вами выжидательно-бездейственная поза, не только обидчиво-гордая, но и сонно-приятная, душевно-ленивая. Быть может, по этой причине мне сравнительно нетрудно писать: когда мы оба в Париже и ежедневно с вами встречаемся, в пылу опасений и надежд, я должен для творческой работы непременно от вас уходить, освобождаться хотя бы насильственно, когда же, после долгого отсутствия, вы становитесь призрачно-далекой, я погружаюсь в немую пустоту, могу и совсем оцепенеть, если в памяти вас не оживлю – очевидно, моему вдохновению нужна какая-то мера любви, теперь нечаянно мною достигнутая. Но всякое наше равновесие в этой области до ужаса непрочно, и то, чем любовь моя питалась – заботы, «культивирование», ревность – по-старому ей необходимо, иначе равновесие нарушится. Я с огорчением и грустью убеждаюсь, что не ревную, что вами не поглощен, и мне страшнее любовной безответственности такое мертвое мое благополучие, разговоры, занятия, книги, редеющий воздух фотографий и писем, я не хочу им более дышать и, утомленный, вдруг ощущаю, как меня бы взволновал и освежил ваш скорый, восхитительный приезд.
Вероятно, именно сейчас я люблю осторожно и трезво, как полагается, как надо любить, как, пожалуй, и вы меня любили, без непрерывной одержимости, напротив – то странно о вас забывая, то безболезненно к вам возвращаясь. Правда, я не окончательно похож на совершенных, примерных любовников, не теряющих склонности и вкуса к удовольствиям, обществу, книгам и делам, ко всему, что мне кажется лишним – возмущая, отталкивая, нервируя – если вы рядом или можете прийти, что мне чуждо порой и в одиночестве: даже в эти спокойные дни я не ищу разумных отвлечений и завистливо думаю о прошлом, когда – опираясь только на вас, не видя окружающего мира, не пробуя в нем утвердиться, обрекая себя на двойное поражение (любовное и денежно-практическое) – я жил добровольно приятной жизнью, неоспоримо достойной и подлинной, а не мечтами о вашем приезде. Еще одна короткая формула, сочиненная мной среди прочих, меня как-то сразу прельстила – подражание декартовским словам, почти буквальное: «Amo ergo sum». Я знаю, что вышло претенциозно и неловко, но эти слова передают всё душевное мое содержание и весь поэтический опыт: для меня человек определяется, возникает и крепнет в любви, и до нее меня самого попросту не было и быть не могло. Мне забавно и несносно перечитывать свои же собственные ранние дневники (мною по-писательски бережно хранившиеся, в минуты опасности и в годы нищеты): их аккуратные, холодные страницы, экзальтированно-заемные порывы, смешная, напыщенная их добродетель, присущая многим тогдашним моим сверстникам, всё это изредка смягчается, темнеет, чуть в отдалении мерещится любовь – не так ли точно будущих военных (кандидатов в инвалиды и в маршалы) пленяют с детства походы и чины. В самонадеянном своем фанатизме я эту веру готов предпочесть ледяному декартовскому «cogito»: нашу тайну, основу, судьбу, по-моему, нельзя объяснить вторичной, сомнительной способностью – мыслить – к тому же усвоенной нами извне, мы как-то резче, естественнее, глубже, и друг от друга, и от всех отделены столь разнородными своими страстями и неизбежной их «сублимацией», возвышающей каждого влюбленного над житейскими успехами и смертью. Я добросовестно пытаюсь понять животворящую природу любви и, потрясенный, внезапно открываю, что любовь не одержимость, не болезнь, что она – благодать, или Божий подарок, или небо, сошедшее на землю, или сила, нас чудом вознесшая на почти недоступные высоты. И в теперешнем любовном падении, в моих упреках и в памяти о счастьи как бы присутствуют отблеск и тень благодати, источник той «жизненной полноты», которая должна преодолеть повседневную вялую скуку, и я непрестанно вам признателен за ваш особый, таинственный дар (на вас самой, увы, не отразившийся) – однажды во мне пробудив, бесконечно поддерживать любовь.
Не добившись ответного чувства, я сознательно и стойко выбираю «прозябание» около вас и не пойду на иллюзорные уступки, вроде вашего «месяца в деревне», и на реальную впоследствии расплату. Мои фантазии беспочвенно-бледны, однако чище и жертвеннее ваших, и нередко подобные вымыслы показательнее всех осуществлений, так что не стыдно о них говорить: я представляю себе необъятные средства, почему-то у нас появившиеся, нашу скромную, ровную жизнь, без нелепо-тщеславных потребностей, с деловитой помощью людям – и толковой, и умной, и душевной – с излучением заботливо-нежной доброты. У меня наготове бесчисленные планы и множество мельчайших подробностей: иногда, увлекаясь, я вижу – среди совместной нашей работы – ваше нахмуренно-строгое лицо, негодующие, синие, печальные глаза, и затем, как бы очнувшись от сна, с недоумением, с тоской перехожу к бездействию и вынужденной лени. Лишь теперь мне отчетливо ясно, какой упрямой ненасытной добротой полна «эгоистическая» любовь к одному, как постепенно она превращается в осязательно-братскую, живую любовь ко всем, и счастливым, и несчастным, с нами связанным хотя бы мимолетно – на других не хватает воображения – и как мертва «любовь к человечеству». В этой бедности нашего внимания есть что-то для нас и унизительное: мы должны отказаться от целого для сохранения крохотной части, мы ограничены жалким своим кругозором, и всякая наша попытка через конкретное прорваться в отвлеченное нас приводит к искусственным верованиям, непонятным или дурно понимаемым – оттого, наперекор их творцам, так нетерпимы их распространители (они защищают собственную веру, словно боятся ее потерять) и оттого мне враждебны большевики. И когда за чужие, непонятые схемы умирают герои и праведники, я убеждаюсь в их непроницательности, в их безлюбовной внутренней природе, и мое возмущение падает: ведь нельзя возмущаться слепыми, и у каждого своя слепота, неодаренность в чем-либо важном, участие в общем неравенстве. Тогда я бунтую не против людей, а против этой у них неодаренности и этого именно свойства – без колебаний экзальтированно знать, что выше и лучше всего, кем надо гордиться, кому подчиняться, кого неуклонно ставить в пример, как жить по такому примеру – самодовольно, жестоко и спокойно. Я ненавижу любое самодовольство – государственное, личное, семейное, за полк, за дела, за друзей и жену – и мне из всех особенно знакомо и наиболее мне отвратительно старинное русское наше самохвальство, однако меня раздражает и обратная вечная крайность – расхлябанно-темное наше пораженчество. Я повинен в одном и другом, поддаюсь патриотическим сенсациям и слезливому русскому раскаянию и безжалостно с этим борюсь: для меня основное наше достоинство – в широте, проникновении и зрячести, не мелко-партийно-служебной (чтобы врага изучить и уничтожить), но прощающей, сердечной и признательной. Боюсь показаться елейным и пресным – я к этим скудным и радостным выводам пришел от «любовной любви» (презрительно многими забытой, иным как будто неизвестной, меня же пронзившей навсегда) и своей «веры в любовь» не сочинял. Неожиданно также я вспомнил, как однажды Петрик заявил, что мы большевиков не переспорим, ничего не имея за душой, и как беспомощно я растерялся – сейчас у меня приготовлен обычно-поздний победительный ответ о нашем добром и высоком назначении, которого мы не выполняем: мне стало яснее, чем прежде, какое лицемерие «там», сколько заведомо-фальшивых утешений, и какая «здесь» могла бы создаться благожелательная искренность во всем, безутешная, суровая, но мужественная, никого не вводящая в обман. Разумеется, правдивая эта безутешность не от безволия, бездушия и слабости и за собою их не влечет, нам следует ее воспринимать не буквально, а сложнее, обобщеннее, глубже – что мира и судьбы не изменить, однако в пределах знакомства и дружбы, доступных влиянию каждого, можно сравнительно многого достичь: необходимо только стараться, проникнуться надеждой и упорством – и около нас образуется как бы тайный мистический круг из людей, облагороженных нами, перенявших заманчиво-трудное умение опираться на собственный опыт и бережно его сохранять для тех, кого он затронет, кому он действительно нужен. И, пущенные с разных концов, такие «спасательные круги» должны разрастись, соприкоснуться, сливаясь не в мертвый формальный союз, но в огромное осмысленное целое, освобожденное от алчности и грубости, от гибельных страстей и потрясений (впрочем это уж слишком «фантазии»). Теперь я начинаю сознавать, как отношусь к писателю, художнику и всякому иному творцу: он не призван ни властвовать над миром, ни гордо от него отрекаться, он что-то улучшает в себе и что-то исправляет в окружающих, и к участию в общей работе его приводят и жалость, и любовь, и напряженная работа над собой. У меня это связано с вами, и я всё более вам благодарен за чудесное свое пробуждение, за первый, столь давний толчок, я по-старому его ощущаю и так беспечно, так просто люблю (без нового, гнетущего страха), что поневоле с уверенностью жду успокоительной вашей улыбки, далекой, но прочной вашей ответности, словно время нам как-то вернуло помолодевшую, прежнюю нашу любовь.