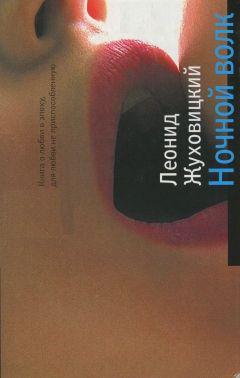Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
Я открывал бутылки, смотрел в окно на совсем уже темный больничный парк с островками корпусов, я знакомился с мужем, с женой, знакомился с Ниной и притом, как правило, смотрел ей в глаза — а в голове все вертелось, как пластинка с поврежденной бороздкой:
Иметь иль не иметь?..
Иметь иль не иметь?..
Иметь иль не иметь?..
Светлана помогала Ире накрывать на стол. Сашка о чем–то спросил ее, она обернулась и кивнула. Она держалась очень робко, все время молчала. Я просто представить себе не мог, что она станет делать, когда кончится вся эта спасительная застольная возня.
Но представить я не мог и другого: что стану делать я сам.
Раньше со мной никогда такого не было. Все решалось мгновенно и как бы само собой: лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал. Но теперь было совсем по–другому. Я понимал, что стоит сказать две или три фразы, услышать столько же в ответ — и, независимо от «да» или «нет», вся моя жизнь станет сложной и мутной. Главное, мутной, какой она никогда не была. И дело не и морали, не в сплетнях — плевать я на это хотел! — дело во мне самом.
Светлана встретилась со мной взглядом и неуверенно улыбнулась, я, естественно, улыбнулся в ответ. Но я не стал гадать, что стоит за ее улыбкой, потому что все никак не мог понять, что стоит за моей.
Я честно пытался думать, хоть как–то сопоставить разные «за» и «против», но вместо разумных мыслей в мозгу навязчиво крутилась все та же песенная строчка:
Иметь иль не иметь?..
Иметь иль не иметь?..
Иметь иль не иметь?..
Я не знал, как она ко мне относится. Мог бы, пожалуй, узнать — по голосу, по взгляду, по движению плеч…
Но я и не старался понять. Я помнил все время, что она «Сашина девочка», и даже представить себе не мог, как с этим быть, не мог представить, как это я буду отнимать ее у Сашки, который и вообще–то не знает, что такое предательство, и уж конечно не ждет его от меня.
И еще одно было самое страшное, — через это я не мог, просто не мог переступить: Сашка был Юркин врач, часть его жизни…
Думайте сами, решайте сами:
Иметь иль не иметь?..
Мы придвинули к столу кушетку, покрытую пожелтевшей клеенкой, поставили три стула и кое–как разместились.
Нина сидела рядом со мной. На ней было черное платье с блестками.
Я похвалил.
— Ты прямо кинозвезда. Странно, что раньше я тебя не запомнил.
Она сказала:
— Это все проклятый халат! Я в нем как голая — даже в коридор выйти стыдно.
Мы разлили вино по зеленым пластмассовым стопочкам, которые, как матрешки, вынимались одна из другой, причем самую большую торжественно вручили имениннице.
— Ну, товарищи, — сказал муж, — что–то руки стали зябнуть, не пора ли нам…
Он сделал паузу, поклонился рюмкой в сторону Нины и закончил негромко, по с выражением:
—…дерябнуть! Так сказать, дерябнуть за именинницу!
Тост был принят с восторгом, и мы дерябнули за именинницу.
Светлана с Сашкой сидели сбоку. Я увидел, как он со своей обычной безрадостной деловитостью накладывал ей на тарелку салат, а она тихо сказала «спасибо».
Это было чертовски больно, и вообще было чертовски больно видеть ее рядом с ним… И вообще рядом с кем угодно…
Это уже никуда не годилось. Я чувствовал, что уже не держу тормоза, что поезд тронулся, и если выпрыгивать из него, то сразу, сейчас.
Тогда я сказал себе: «Хватит. Кончено».
Я сказал себе: «Так нельзя. Все!»
Я сказал себе, что это хорошо и справедливо, у Сашки и должна быть такая девушка: он хороший парень, он честный врач, он лечит Юрку.
Я сказал себе, что этой девочке просто повезло — муж у нее будет врач, самая чистая профессия, какая только есть, честного врача можно уважать уже за то, что он врач.
Я сказал себе, что я сам, если не сволочь, должен быть рад, что она любит серьезного спокойного парня.
А так как это подействовало не слишком надежно, я стал смотреть на нее трезво и проницательно и увидел, что она не слишком красивая и довольно нескладная, что руки у нее велики, глаза не светятся никаким особенным умом и вообще все, что у нее есть, — это восемнадцать лет и хорошее воспитание…
— Ну, товарищи, — сказал муж, — что–то стало холодать, не пора ли нам…
Он сделал паузу и с общим поклоном закончил:
—…поддать! Так сказать, поддать за прекрасный пол.
И опять мы все радостно засмеялись — не потому, что тост был так уж неотразимо остроумен, а потому, что этажом ниже шли сейчас последние перед сном таблетки и уколы, еще ниже, у входа, бдительно дремала вахтерша, а здесь худая смелая девчонка справляла день рождения под самым носом у судьбы.
— Вот он всегда так, — ворчливо, но не без гордости проговорила жена. — Сколько он этих тостов знает — ну просто уму непостижимо!
Нина оживилась, все вертела головой, задевая меня волосами и тут же бережно поправляя этот пышный неустойчивый шар. Она следила, чтобы тарелки были полны, и виновато спрашивала:
— Гош, наверное, вина мало?
— Да все нормально, — отвечал я. — Ты выписывайся скорей, тогда уж свое возьмем.
Это ободрение было слишком шаблонным — Нина замолчала, горько усмехнулась и сразу как бы осунулась.
К счастью, положение спас муж. Ему было лет тридцать пять, звали Колькой, он был долговяз и добродушен. Помимо остроумия, за ним водилась еще целая куча талантов. Он вдруг стал петь, подыгрывая себе на несуществующей гитаре. И хоть пел так себе, но зато без остановки, не заставляя себя просить. Песни были и туристские, и блатные, и композитора Колмановского, и неизвестно чьи, почти полностью состоявшие из звукоподражания.
— Да ну что вы, — отмахнулась от наших похвал жена. — Он же их сто восемьдесят штук знает!
Вина в бутылках больше не было. Мы распечатали пузатую бомбочку и, так как наклейку никто разобрать не смог, постановили, что это тот самый ремарковский кальвадос.
Я допил свою стопочку — вино было крепленое, но приятное. Нина протянула мне свою, почти полную.
Я покачал головой:
— Пей, мне хватит.
Она сказала:
— Выпей ты. Я тебя прошу.
— Буду знать все твои мысли.
— Ну и пусть, — согласилась она.
Глаза ее блестели, но я знал, что дело тут, в общем–то, не во мне.
Она вдруг взяла меня за руку и потащила в закуток между бормашиной и голым больничным шкафом.
— Ты знаешь, сколько мне сегодня? — спросила она.
— Лет двадцать?
Я знал, что двадцать два, но она была женщина.
— Поцелуй меня, — сказала Нина. — Именинниц всегда целуют.
Она приподнялась на цыпочки и прижалась ко мне.
— Обними меня, — сказала она. — И не надо делать мне комплименты. Мне двадцать два года, ты же знаешь. Ну и наплевать — все равно я не успею состариться.
— С чего это ты вдруг? — спросил я.
Я не знал, чем она больна, но на всякий случай приготовился врать. В конце концов, она должна мне поверить — весь род человеческий держится на том, что женщины верят мужчинам.
Она вдруг заплакала, уткнувшись лицом мне в грудь, и я стал гладить ей волосы и плечи. Потом приподнял ее голову и бережно поцеловал в щеку.
— Ну, чего ты плачешь? — сказал я.
Она все плакала. Но на нас никто не смотрел — постоянным и надежным центром внимания был муж Колька. Теперь он рассказывал анекдоты народов СССР, а также западноевропейские, причем говорил с резким международным акцентом.
Его слушали все. Юрка — скептически, но с любопытством. Светлана сидела спокойно и воспринимала кавказские анекдоты так же вежливо и внимательно, как тогда на лавочке разглагольствования пожилого интеллигента. А Сашка слушал без улыбки, его ученый нос покачивался в такт Колькиным остротам.
Идеальным слушателем была Ира. Она хохотала открыто и радостно, отзываясь на каждую искорку смеха, по смотрела при этом на Юрку с таким восторгом и обожанием, словно все это рассказывал он.
— Откуда он только эти анекдоты берет! — сказала жена. — Весь вечер может рассказывать…
Нина вдруг резко вскинула голову и уставилась мне и глаза:
— Скажи честно: до меня противно дотрагиваться?
Я удивленно посмотрел на нее:
— Ты что, с ума сошла?
Она с вызовом сказала:
— Я же знаю, что я полутруп.
Я не нашелся что ответить, — у нее была чисто женская страсть к преувеличениям. Она настаивала:
— Ну скажи честно: о чем ты сейчас думаешь?
— Честно?
Я переспросил, просто чтобы выиграть время, найти хоть какую–нибудь фразу, которая ее убедит.
— Да.
Я ответил, глядя ей прямо в глаза:
— Думаю, есть ли на этом этаже еще одна свободная комната.
— Гошка, ты с ума сошел…
— Ты же просила — честно… Погоди минуту, спрошу у Сашки.
От неожиданности она присмирела. Я сказал: