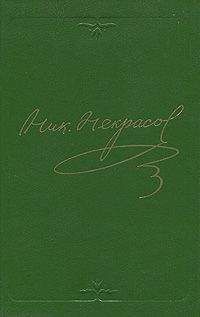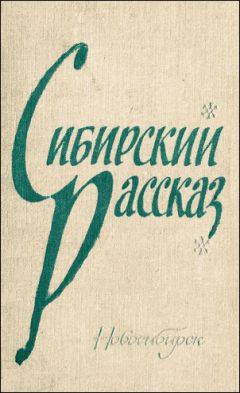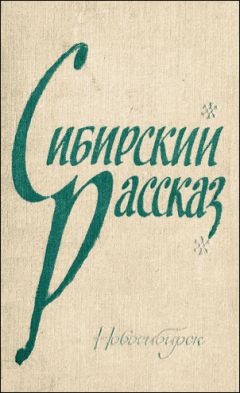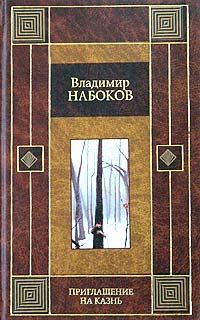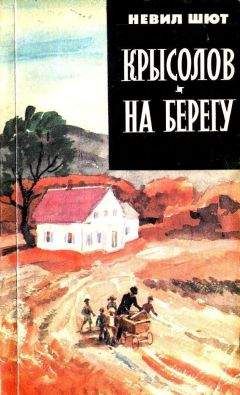Давид Константиновский - Яконур
— А я не хочу спать, мамочка!
— Тебя, Наташенька, никто не спрашивает.
— А девочку родишь?
— Знаешь, — сказал Герасим, — не надо сегодня…
— Ты считаешь, это можно отложить? Герасим, это очень важно для всего твоего будущего! Хорошо, я продумаю и потом обсудим…
— Вот я буду мама, у меня будет много девочек!
— А справишься? Одна будет говорить — манную кашу не хочу, другая — спать не буду…
Наталья насупилась.
— Ладно, одну рожу…
— Учти, Герасим, тебе предстоит пройти через сложную расстановку сил, но, конечно, игра стоит свеч…
— А форму купили? — спросил Герасим. — Надо бы заранее!
— На следующую неделю у меня запланировано.
Наталья начала вылезать из-за стола, неловко повернулась, упала, ударилась; горько заплакала.
Ляля прижала ее к себе; в сердцах, Герасиму:
— Лучше б я так ударилась.
Наталья вскрикнула:
— Нет!
И заревела пуще прежнего…
Потом Герасим укладывал Наталью, она упрямилась; он уговаривал, она сбрасывала с себя одеяло.
— А я все равно не засну!
— А знаешь, это ведь у тебя волшебная подушечка. Вот ты легла — и скажи ей: «Подушечка, подушечка, давай спать!» — и сразу заснешь. А утром скажешь: «Подушечка, подушечка, хватит спать!» — и сразу проснешься, и сонненькая не будешь.
Наталья:
— И умываться не надо!..
Герасим вернулся в кухню. Ляля резала печенку, сковорода уже стояла на плите.
— Ну что, родим? Как скажешь…
Герасим промолчал.
Ляля вымыла руки, достала из холодильника бутылку, поставила рюмки.
— Давай выпьем пока по одной.
— Давай, — согласился Герасим.
— За твое новое назначение.
— Потом… Потом, ладно?
— Как хочешь.
Снова занялась печенкой.
— Тебе, конечно, побольше перца?
Герасим стоял, прислонясь к стене, руки в карманах; смотрел.
Ляля заговорила опять:
— Наташка права! Посмотри на других. Я хочу, чтобы у меня было двое детей. А тебе разве не хочется своего ребенка? Представь, у нас с тобой будет ребенок. Это очень много значит в семье… Конечно, если ты не передумал. Это так помогает обоим, ведь в семье возникают и сложные ситуации. И еще, кто будет о нас заботиться, когда мы станем больными и старыми? Кстати, вот когда мы будем очень нужны друг другу… Сейчас не время, я понимаю! Это на год, на два задержит мою защиту, да и на тебе отразится. Сейчас особенно не тот момент! Ну, давай отложим, а там решим…
Снова вымыла руки.
— Пожалуй, я сразу постелю, а потом будем ужинать.
Вышла.
Герасим шагнул к столу. Налил, выпил.
Сел за стол.
Он всегда был достаточно уверен в себе. И всегда у него все ладилось.
Стал меняться, и — ощущение, близкое к предчувствию катастрофы…
Реальное внезапно исчезало в миражах, настоящее оборачивалось воспоминанием, горы рассыпались трухой, на привычном лежало табу!
Он начал открывать в себе, вокруг себя одно за другим такое, что неспособно сосуществовать, сочетаться с новым… Начал обнаруживать, что многое, составлявшее его жизнь, и многое, им двигавшее, сделалось невероятным…
Он не мог больше быть прежним. Но еще плохо представлял себе, как сможет изменить — все.
Сидел за столом, опустив плечи.
Он не раз удерживался сегодня на поверхности лишь с помощью эпизодических рывков, к которым с трудом принуждал себя.
Не раз с усилием заставлял себя следовать старой роли: он не вполне знал новую…
Ему было слышно, как Ляля достает простыни из шкафа, как разворачивает их, — этот звук, с которым отделяются друг от друга плоскости свежей, подкрахмаленной, проглаженной простыни.
Чертил пальцем по столу.
Вот женщина, любой мужик позавидует этой организованности, воле, деловитости…
Раньше это его устраивало! Нравилось ему! Его помощник, его записная книжка, его партнер, с которым молено отрепетировать сложный разговор, встречу, тактику… Счетная машина!..
Раньше он был другой.
Теперь принял новую веру.
Нет, этот дом только казался надежным, закрытым для внешнего мира; то одно, то другое, то третье, как тайные соблазнители, проникали в него и ходили здесь по комнатам днем и ночью, не считаясь с Герасимом; заманивали… Отбирали у него душу его женщины…
Неправда!
Он сам приводил сюда это все, гостей этих, полный дом; представлял их Ляле, в рот им заглядывал, сам в них верил!
Давно уже так было.
И что-то виделось уже… такое будущее…
Дом как продолжение службы, да!
Порядок, организованность…
Все регламентировано! Что говорить, когда рожать! Как жить детям! Когда идти в магазин!
Порядок, организованность.
А хотелось счастья…
Все хотят счастья, говорила ночью Ольга, только не понимают…
Вот две женщины. Каждая из них такая, какой другая быть боится.
Да нет, все логика! Смешно. Глупо. Логика и — это!
Одна хорошая, другая плохая… Не сошлись характерами… Разные интересы… И прочие слова. Символы. По сути — обозначения одного и того же.
Может, признаться себе: сменил любовь — сменил и веру? А не наоборот!
Или все же наоборот?
Черт, опять логика…
Дело просто в том, что он наконец… наконец…
Искал слово.
Нет, не искал, он знал его…
А сколько все же в них обеих общего! Искренность и эти их мечты о будущем… по-своему… их желание принести ему добро… у каждой по-своему… а какие они умницы, характеры какие, что за индивидуальности… по-своему… а как хороши собой!
Пусть верно, что все женщины равноценны, — нет, это не так! — но, допустим, что во многом или хоть отчасти…
Тем более важно, необходимо любить, чтобы быть с женщиной!
Что за ерунда, — любить за что-то… Просто любят и все…
Он продолжал чертить по столу, когда вошла Ляля.
— Выпил! Без меня! Милый мой, я очень долго, да?..
Герасим встал.
— Знаешь, я пойду.
Ляля смотрела на него, он ждал, что она скажет.
— Может, поешь?
Голос тихий, ровный.
Герасим отказался.
Пошел в коридор…
Телефонный звонок; Ляля сняла трубку, послушала, сказала:
— Тебя.
Вернулся.
Это был Михалыч, он привычно разыскал Герасима у Ляли; привычно…
Специальный вопрос; Михалыч обсуждал работу, которую прислал Снегирев, по проверке уравнения Морисона.
Герасим отвечал. Ляля стояла рядом.
Еще вопрос.
— Это лучше узнать у Якова Фомича, — сказал Герасим.
Ляля ушла в кухню.
Михалыч рассказывал Герасиму о Якове Фомиче…
С каким запозданием приходит все к нему сегодня.
Саня, видно, не знал… а Ляля не сказала. Не хотела? Не считала нужным говорить об этом?
Что же Вдовин… Понимал, что он еще ни о чем не мог слышать? Или полагал, что все Герасиму известно — и?..
Потом, когда Герасим отпирал дверь, его позвала Наталья.
— Что же ты не спишь?
— Ты тихо уйди, — шепнула Наталья, — чтоб глазки не слышали, а то заплачут. И ты их не целуй на ночь, ладно?
Снова коридор, дверь…
Ляля вышла к нему из кухни.
— Я сразу поняла, как только тебя увидела… Смотри, не будь размазней, Герасим!
Отворил дверь, шагнул за порог.
Успел увидеть еще, как шторы вскинулись вслед ему, — будто руки…
Захлопнул за собой дверь.
* * *Из булочной Маша-Машенька пошла по бульвару; знала ведь все наперед, а пошла; брела медленно, кивками отвечая знакомым, укрыв глаза от них за темнотой и за темными очками, уклоняясь от тех, кто пытался заговорить; спрятавшись в себя глубоко…
Вот, началось. Еще афиши только показались… Началось.
В первый раз она увидела его, когда все они приехали на совещание, — Старик, Вдовин, Свирский, Снегирев… И он. Лыжную прогулку для них организовывала. Каждый был человек особенный, но Элэл она сразу выделила из всех. Думала о нем… Потом он стал директорствовать, иногда она встречала его в коридоре. И только. А потом ее позвали в другой институт, работа была там такая же, канцелярская, но старые подруги да что-то еще, совсем неважное, видно, хотелось просто перемены, — и ушла.
Встретила однажды на улице; не узнал. Ну, подумала, что же! Заслужила.
Когда был у него второй приступ — тот, который он на теннис свалил, — ухаживали тогда за ним ученики и просто чужие люди… Она потом спрашивала себя: почему не пришла? Ей надо было пойти и ухаживать за ним, не отходить от него. Пришла бы, и всё…
Вот и афиши. Держись, Маша-Машенька. Держись.
Потом, когда уже и второй приступ был у него позади и выборы в академию, они встретились здесь, в кино, она сидела позади него, через ряд. День был особенный, первое января, начало года, поворот… Он обернулся; поздоровался! «Перестали узнавать», — сказала она. «Зачем ушла?» — сказал он. Рядом с ним было свободное место, и он стал звать ее, а она сказала: «А сгонят?..» Он понял, это видно было по его улыбке, но продолжал настаивать; уже гасили свет, начинался журнал, он показал ей на два свободных места в другом ряду, встал, дотянулся до нее, взял ее за руку и повел к тем двум местам; нес ее руку… И не отпустил. Она смотрела на экран, на него и не глянула, смущена была, испугана; такой серьезный человек! Потом вышли со всеми, он не отпускал ее руку, спросил: «Где ваша дорожка?» Она после уж поняла, что это для него означало, дорожка…