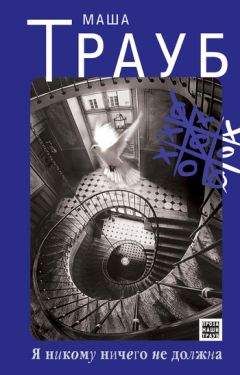Елена Серебровская - Весенний шум
Что же такое случилось? Как это осмыслить? Гражданская война давно прошла. Коллективизация в деревне тоже завершена, страсти поутихли и там. Казалось, уже миновали те сражения, в которых товарищи платили за победу жизнями. Кровь — самый вид ее забыли. И вдруг…
Кирова в городе все знали, его все любили. Люди всевозможных профессий видели его не только на трибуне, во время демонстраций и на активах в Смольном и Таврическом, многие встречали его у себя в цехах заводов, в лабораториях институтов, на фабриках, торфоразработках. Всюду он поспевал, всюду сам старался побывать. Шутил, первый заговаривал с работницами, с фабзайчатами, с инженерами. Открытая душа, понятный, настойчивый, преданный революций весь без остатка, до последней капли крови…
До последней капли крови… Нет, не только ленинградцы знали его и любили, знали северяне, знали нефтяники Каспия, знали на Кавказе и в Астрахани. И нашлось бы немало таких, кто готов был заслонить его от черной пули, заслонить не задумавшись, как старшего, как лучшего товарища, который много может, который во́т как нужен партии.
Маша вспомнила встречу на улице Красных зорь, вспомнила его отцовскую улыбку. Всем известный человек, герой гражданской войны — и такой простой, свой… Ни к чему он не был равнодушен, все ему было интересно, всюду он бывал — на заводах, в колхозах, фабзавучах. Люди его любили.
И вот… Голова к голове, плечо к плечу вливались они в вестибюль Таврического дворца, люди, сгорбленные горем, ошеломленные известием, которого никто не мог ожидать. Поток людей медленно обогнул поставленный на возвышении, украшенный венками гроб. Красное с черным, всюду красное с черным, а посреди — наш товарищ и наш руководитель, которому мы верили больше, чем себе. Он не шевелится. Он убит. Убит на посту.
Кто, кто мог совершить такое? Значит, враги еще есть, и мало того — они посмели сделать это днем, в центре города. Значит, не только в учебниках написано о кровавой ненависти троцкистов и зиновьевцев к ленинцам, к партии. Есть опасные люди. Надо предупредить, уничтожить самую возможность таких страшных дел. Надо обезвредить врагов.
Сын партии, воин…
Темный зимний вечер был прорезан острыми лучами прожекторов, бликами летевшего света. Вдоль широкого проспекта медленно плыло артиллерийское орудие, на лафете которого стоял гроб. И вслед за лафетом шли, сжимая плотно челюсти, самые известные, самые главные люди страны, приехавшие из Москвы. Так провожают сына или любимого брата — молчаливо грозное мужское горе, молчаливо и трудноизлечимо.
Оркестры не скрывали человеческой боли, но музыка не только рыдала и оплакивала, она вела на бой, она грозила убийцам, она ничего не прощала.
В общем горе каждый на какие-то минуты потерял себя, забыл о себе. Какой-то худенький, подвижный кинооператор молча делал свое дело, выбирая свет, направляя свой аппарат на картину народной трагедии. На вокзале специальный состав принял людей, принял гроб с человеком, которого никто не мог представить себе мертвым, специальная охрана следила за каждым вагоном. Худенький кинооператор с охапкой круглых металлических коробок подбежал к вагону последним. У него не было никаких пропусков, никаких билетов, его просто хорошо знали в лицо, и он поехал с поездом, не взявшим ни одного корреспондента или репортера.
В последующие дни в Колонном зале оператор снимал минуты прощания москвичей, снимал вождей, соратников Кирова, стоявших в почетном карауле. Ему говорили: «В первой цепи подойдешь к четвертому слева, во второй — к третьему слева». Он подходил со своим аппаратом, и красноармейцы, отступая на шаг, пропускали его вперед. Плакали все, даже самые суровые, самые твердые люди. Но оператор сам не имел права плакать, он приказал своим рукам не дрожать и снимал, снимал. Он не спал три дня, но руки подчинялись, они не дрожали. Оператор снимал и снимал, а когда все было кончено, он принес свои коробки в кабинет начальника Комитета кинематографии, отдал их и тут же свалился на диванчик. Он спал сутки подряд, и никто не будил его. Проснулся он от разговоров — просматривали снятые им кадры. Он спустил ноги с дивана, посмотрел на всех мутными сонными глазами и тогда только понял. Это не сон, это он снимал последний раз в жизни своего Кирова — Кирова, с которым столько раз виделся и разговаривал во время съемок на съездах, совещаниях, митингах! Кирова, который по окончании работы операторов в Таврическом спрашивал коменданта дворца: «А чай у вас найдется? Люди же устали…» — и сам садился с ними попить чайку.
Оператор понял — нынче он снимал Кирова в последний раз. С ужасом взглянул он на сидевших в кабинете людей, взглянул и заплакал. И никто не посмел утешать его.
А жизнь продолжалась, она не могла остановиться ни от какого, даже слишком большого горя. Люди работали на заводах и в учреждениях, студенты готовились к сессии.
Маша Лоза готовилась к первой в своей жизни сессии.
Экзамены нагнали такого страху, что не хватало ни ночи, ни дня. Маша то сидела в библиотеке под зеленой лампой, то бегала в общежитие повторять по программе историю древнего Востока. Их собиралось там четыре человека, трое ребят и Маша, и они ожесточенно повторяли, повторяли, повторяли… Комсорг их группы Гриша Козаков написал по всей программе нечто вроде подробной шпаргалки. Это были одинаковые узенькие листки, на которых слева проставлялась дата, справа факты, события истории, которые положено знать. Под некоторыми из них в скобках было написано, как неправильно истолковывали эти факты буржуазные ученые.
Гриша Козаков был маленький, рыжий и говорил так неразборчиво, словно держал во рту десяток камешков. Но мысли его были всегда логичны и четки, память отличная, и готовиться с ним вместе к экзаменам было очень полезно для таких недостаточно организованных натур, к каким принадлежала Маша. Он никому не давал «растекаться мыслию по древу», он управлял всем этим процессом повторения, хотя сам говорил немного и больше слушал. Если ребята забывали сказать что-нибудь существенное, он добавлял, но первым никогда не лез.
В семинаре профессора Васильева, читавшего историю древнего Востока, Маша занималась охотно. Он водил студентов на экскурсии в Эрмитаж, и они рассматривали египетские мумии, стеклянные флаконы, коробочки для красок, которыми пять тысяч лет назад женщины подкрашивали глаза и губы. Они видели папирусы — и те, которые были документами и сообщали о делах, и те, которыми на досуге зачитывались рабовладельцы и их ленивые жены… Профессор показывал глиняные хеттские таблетки, надписи на которых он расшифровывал в тиши своего кабинета, — они тоже говорили о седой древности. Но и в этой древности люди любили и ревновали, рождались, умирали и старели. Время перечеркнуло множество жизней, остались коробочки от краски да папирусы… Только ли?
Маша с любопытством рассматривала египетские вазы, тонкие орнаменты и рисунки. От женщин, живших только ради того, чтобы брать, остались принадлежности их туалета, но от тех, кто трудился, человечество получило в наследство произведения искусства, частицу души творцов этого искусства. Их жизнь не прошла бесследно.
Профессор назвал студентам свою последнюю работу, в которой он расшифровал один папирус, рассказывавший о восстании рабов. Маша раньше всех достала эту книгу и с жадностью прочла ее. Ей казалось, что, изучая историю дальних тысячелетий, она еще там начинает свою жизнь, она переживает волнения и страсти людей, живших тогда, и это удлиняет собственную жизнь на баснословные сроки. Вот развернулось восстание, и простые люди стали полноправными, и богатства вернулись к рукам тех, кто их создал. И женщины-рабыни, не имевшие права продолжать свой род, понесли и родили детей, и дети простых людей стали учиться грамоте в школе у писцов. Маша увидела себя в жаркий африканский зной на берегу Нила с маленьким узкоглазым ребенком, на руках, ее ребенком… А дома — вдоволь пшеничных лепешек, а дома ждет любимый, ныне свободный человек… На одном из камней она увидела портрет египтянина с голубиными глазами, совершенно такими же, как у Семена Григорьича. И тогда жили люди… как это далеко от нас, и как мало приходится жить человеку!
Однажды во время семинарских занятий Маша стала рисовать профиль своего соученика Арутюняна. Она не заметила, как профессор подошел к ней и взглянул на рисунок.
— Позвольте, — сказал он ей и поднял листок, чтобы его видели все. — Этот набросок портрета вашего товарища-армянина говорит о большом сходстве в наружности ассирийцев и современных армян. Это — родственники, наследники, вспомните портреты ассирийских царей. А рисовать во время занятий не следует, — закончил он, возвращая рисунок покрасневшей студентке Лозе.