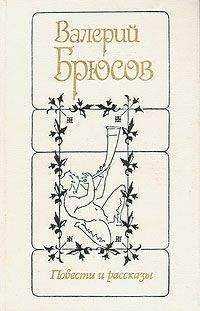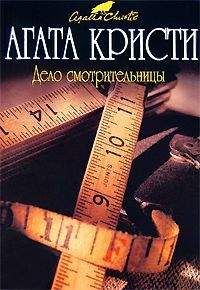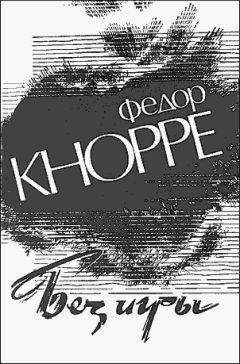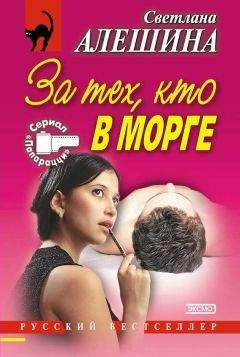Федор Кнорре - Рассвет в декабре
Он шел никуда. Без всякой цели. Его вели, и, когда привели в огороженный двор, человек сказал: «Стой здесь, подожди», он сейчас же отвернулся, прислонился лбом к забору и заложил руки за спину — так полагалось стоять, когда приказывают ждать. Стоять — ждать.
— Э! — сказал человек, не очень удивившись. — Ты, кажись, совсем доехал?.. Ты садись!
Тогда он сел на корточки, прислонясь спиной к забору, и, кажется, заснул или, может быть, впал в отупение последней усталости, изнеможения, граничащее с беспамятством.
Спустя какое-то время, наверное не очень-то малое, он почувствовал, что его будят, толкая в плечо. Он встал и, ничего не понимая, опять покорно пошел, но оказалось, идти больше не надо. Перед тем как ступить на ступеньку крыльца, ему велели снять с ног его деревяшки и тогда впустили в дом. Он так и вошел через темные сени в избу с деревяшками в руках. Тряпки, обмотанные вокруг ног, волочились за ним следом. По стенам прыгали отсветы огня и тени. Старуха, сидя на скамеечке перед огнем, злобно подпихивала корявые поленья в топку.
— Ну вот он, что я могу поделать, — сказал человек, который его привел. — Теперь я пошел, устраивайся уж как-нибудь.
Старуха чуть глянула на него и отвернулась с угрюмой досадой, даже сесть ему не предложила и продолжала накрест укладывать дрова, распаляя печь пожарче.
— Здравствуйте, хозяйка, — сказал он и поклонился.
Она даже не обернулась. Очень ей, видно, не хотелось его принимать. Он постоял-постоял и опять, как на дворе, сел на корточки, прислонясь к косяку входной двери.
Тени всплескивались, шевелились на стене. Потрескивали, стреляя угольками, дрова, было тепло.
Старуха подхватила с полу его деревянные башмаки и, держа их на отлете, унесла куда-то, чтоб не сбежал, что ли?
Она вернулась, в руках у нее были расколотые топором деревяшки. Она аккуратно сунула их в самый жар, с отвращением вытерла руки и села ждать, пока сгорят.
Потом показала ему, чтоб снимал свою рваную полосатую куртку. Он снял и подал ей куртку. Когда и куртка сгорела, старуха размешала золу на угольях и показала, что теперь очередь за штанами.
Он, отвернувшись, снял и отдал свои полосатые штаны с красными кругами — знак, что за ним числится попытка побега. Стоя среди комнаты, он смотрел, как горит его тонкая, тряпичная лагерная оболочка. Впервые за долгое время застыдился лохмотьев своего грязнущего, земляного цвета белья перед этой злой, сухой старухой, невольно вспомнил, что он все-таки мужик. А тут она ему с брезгливым отвращением показала молча, ткнув пальцем, чтоб скидывал с себя и все остальное. Он потянул было через голову рубаху, да и остановился, стал оглядываться — чем бы хоть прикрыться, что ли.
Старуха все-таки не совсем ополоумела, до нее наконец дошло, что он останется начисто голым. Прежде-то она до этого, видно, не додумалась.
Она встала, огляделась вокруг, вытирая передником руки, постояла в тяжелом раздумье и села обратно на скамеечку — опять стала подкладывать дрова. Долго так просидела, будто забыла про него. Насильно медленно оглянулась, наткнулась на него газами, и ее так и передернуло: он все стоял в своем рваном сером белье, опустив руки.
Старуха еще посидела, опять поднялась, подошла к деревянной кровати, постояла перед ней и вдруг опустилась на колени. Постояла на коленях, потом нагнулась, оперлась одной рукой и прилегла щекой на одеяло. Другую руку глубоко засунула под кровать, пошарила-пошарила, ухватилась за что-то и волоком вытащила за ручку сундучок. Некоторое время она его рассматривала или раздумывала над ним. Похоже было, что она молится, но, наверное, так казалось потому, что она стояла на коленях. Вдобавок она еще вдруг поклонилась, но оказалось, что она снимала через голову у себя с груди шнурок вроде тех, на которых носят нательный крест. Вместо креста у нее там висел ключ. Им она и отперла замок, откинула крышку и опять застыла, вглядываясь в нутро сундучка. Неожиданно бережным, прямо-таки нежным движением, как берут на руки очень больного ребеночка, боясь его потревожить во сне, она осторожно подсунула обе ладони, достала и подняла на руках сложеный кусок толстого белого полотна.
Со стуком захлопнула крышку, не запирая замка, толчком, как потерявшую всякую ценность вещь, задвинула сундучок опять под кровать и вернулась обратно к своей скамеечке перед жерлом печки, на ходу швырнув ему это свое полотняное без единой складочки, достанное из сундука.
Развернув, Алексей увидел, что это длинная рубаха, ненадеванная, сияющая матовой белизной. Стащил все белье, тряпки-обвертки с ног — все пошло в огонь — и остался в длинной рубахе — да какой там рубахе, он тут же понял, что это береженый, заготовленный старухой саван. И ненависть ее взглядов уже не удивляла его… С тех пор он так и существовал, безвыходно и безмолвно, шлепал босиком из угла в угол в длинном, до щиколоток, саване. Хозяйка от него нос воротила, не смотрела в его сторону. Когда ставила перед ним миску с похлебкой, печеную репу, ломоть хлеба — и то отворачивалась подальше, как сторонят от пара лицо, поднимая крышку с круто вскипевшего котла.
Попробовал было он однажды днем пойти за ней следом к двери, так она попросту отпихнула его локтем обратно в избу и прихлопнула с досадой за собой дверь: значит — не высовывайся.
Мыться она ему приносила раз в день утром, в маленьком ушате. Мыла не давала, только узенькое тонкое полотенце, которым утереться было нельзя, сразу же промокало, как бумага. Он стал им подпоясываться — все-таки не так похоже на святого угодника или на обряженного покойника, ожидавшего своей очереди на захоронение.
Сперва он все благодарил старуху — за хлеб, за полупустой мешок с сеном, который она сунула ему под голову на лавку, потом бросил благодарить — старуху это, кажется, только злило. И зажили как двое немых. Он спал и ел, и ждал, что с ним решат делать те, кто его как-никак спасли, выручили, вот и к старухе этой привели.
Теперь по утрам, когда он просыпался, ему казалось, он слышит пробудившееся жужжание какой-то работы, возобновившейся в его опустошенном голодом, изнуренном организме. Теперь он, всеми клеточками, жилками жадно всасывая, наполнялся радостью возвращения начавшей уже иссыхать, угасать в нем жизни.
Он совсем было утвердился в подозрении, что старуха просто-напросто немая, не может говорить. Оттого и злится на него, обыкновенного человека. Однако, когда однажды со двора постучали и старуха, выйдя в сени, с кем-то стала в полушепот сварливо переговариваться, он убедился, что говорить она может, когда захочет, не хуже его самого. Даже слова отдельные он смог уловить, слова были то немецкие, то вроде бы польские или словацкие.
Она впустила того, с кем переговаривалась в сенях, а сама ушла во двор.
— Целую ручку! — жизнерадостно сказал, появляясь на пороге, очень маленький старичок с совершенно кривым носом. — Немножко сердитая дама, а? — И подмигнул, покосившись на дверь. Потом протянул руку: — Русски? Так, так, много есть русски! Я сам дрей яре был у русски. Как дезертир! — Он с шутовской гордостью хлопнул себя в грудь и опять по-немецки продолжал: — В году тысяча девятьсот пятнадцатый я стал дезертир, от старикашки Франц-Иозеф — к русским. Одна тысяча девятьсот пятнадцатый год, война, ты слыхал? Старый зольдат!
Оживленно приговаривая, он развертывал принесенный узел. Разложил на лавке брюки, повыше расправил жилетку и сверху жилетки рубаху и куртку. В головах уложил фетровую шляпу, так что вышло вроде пустой оболочки лежащего на лавке человека. Когда все было готово, аккуратно разложено по местам, он отступил на два шага, оборвал болтовню и удивленно, точно все оказалось для него полной неожиданностью, застыл с полуоткрытым ртом. Нерешительным пугливым движением с опаской показал пальцем на то, что лежало на лавке.
— Франтишек, — полушепотом объяснил он Алексею. — Это Франтишек… Да… Это он.
Очень бережно, нагнувшись к самому полу, он поставил ботинки, которые до тех пор держал в руках, и сразу ушел, не прощаясь, не оглядываясь.
Алексей стал одеваться. Хлебные и табачные крошки, свалявшиеся в карманах куртки; оборванный и связанный узелком шнурок на ботинке; складки, расползшиеся от обвисших в плечах рукавов; квадратики папиросной бумаги для курева, запасливо засунутые за кожаную ленту подкладки фетровой шляпы, — все напоминало, что эта одежда освободилась после того, как совсем недавно выбыл из списка живых человек, которому все это принадлежало.
Саван свой он сдал старухе. Она смяла его в комок и понесла куда-то на двор. Ясное дело, для нее он был все равно опоганен. Не то что в сундуке, а в доме она его держать не желала.
В темноте, по ночам старуха не препятствовала ему выходить и прежде. Теперь на самом рассвете он спустился по каменистому склону в лощинку, где по дну с тихим бормотанием сбегал с горы ручей. В лощинке стелился глубокий предутренний сумрак.