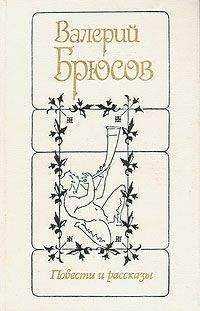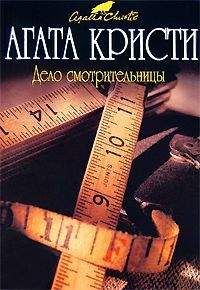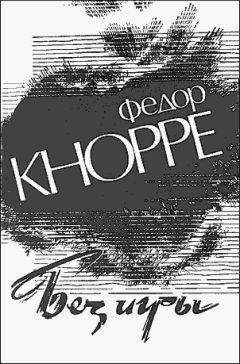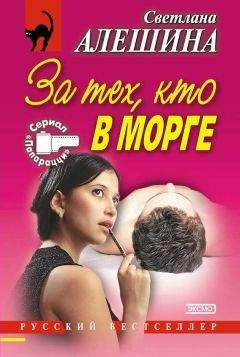Федор Кнорре - Рассвет в декабре
А мы вот бесились, не верили, что мы какие-то выродки-уроды… Я вынужден был соглашаться, потому что вижу — правда: нужно движение. Либо туда, либо сюда. Я-то на всякие компромиссы падок… Я и пробовал все как-нибудь сгладить. Так это еще хуже…
— Похоже, вы не очень-то себе нравитесь, а?
— Кто? Это я? — Олег до того удивился, что даже ткнул себя раза два пальцем в грудь, чтоб исключить возможность какого-нибудь недоразумения. — Я? А чему тут нравиться?.. — Он еще и плечами пожал и совсем замолчал.
Алексейсеич смотрел на него из-под полуприкрытых век довольно долго, с какой-то усмешливой симпатией.
— Плоховато ваше дело.
— Мое? — переспросил Олег. — Очень даже плоховато. Плоховатей некуда.
— Да… Секрет успеха дураков знаете в чем? Они себе нравятся. Очень нравятся.
— Вы шутите? А это ведь правда. Как-то действует. Заражает окружающих… — Олег вдруг радостно расхохотался и сразу сделался очень симпатичным.
Неслышно вернувшись домой, Нина стояла в дверях, не снимая пальто. Раскинутыми руками упершись в косяки, тихонько покачивалась взад-вперед на каблуках, недоверчиво и удивленно прислушиваясь, склонив голову набок, к плечу.
— Я-то мчалась как сумасшедшая, а у них тут веселье!.. Звонок сделал?
— Сейчас сниму. Надо отрегулировать кое-что.
— Ну-ка!.. Где это?
Нина нашла и нажала пластмассовую клавишу, двойной колокол грянул за дверью, в столовой, но звук был такой, будто бухнуло над самым ухом.
— Я и говорю — отрегулирую… нет, другой подберу.
— Лучше другой. Этим в Новгороде народное вече созывали, отдай ты его обратно, зачем у них взял?
Алексейсеич слушал начавшуюся их болтовню про Иоанна Грозного, Новгород Великий сначала с удовольствием, потом безразлично, вернее, невнимательно, как будто где-то близко ожидало его дело поважнее. Какое, он еще не знал. Он не заметил, как ушел Олег, как остался один, как вернулась потом в комнату Нина, уже переодетая, в домашнем старом платьице. Она его что-то спрашивала и ждала ответа. Он с трудом отвлекся от ожидания, которым был поглощен.
— Я о твоей этой Леле… Нехлюдовой почему-то несколько раз вспомнила. Ведь это странно, что ты можешь помнить такое… чего, собственно, ничего и не было. Чудная вещь память у человека. Правда? Ты слышишь?
— Да… — невпопад, медленно выговорил Алексейсеич. — Чудак был. Ходжа.
— Ты про что? Какой Ходжа?
— Ходжа Насреддин. Я.
— Твой любимый герой?
— Нелюбимый. Ну его к черту, похожи мы с ним, кажется… Ты что спросила? Память? — Он вдруг заговорил отчетливо, ясным голосом. — Она собирается долгими годами… как музей: уходящие вверх стертые ступени лестницы с железными перилами… кусок расколотой взрывом бетонной глыбы… обломок заката… женское лицо с улыбкой, полуприкрытой ладонью, занавеска окна, облитая лунным светом, божья коровка на детской шелковистой ладони… все в длинных сумрачных залах, под чехлами. Темно, паутина, пыль, и вдруг потянешь за край, соскользнет чехол, и открывается что-нибудь вот такое, не тронутое временем, встанет как живое перед тобой… А почему? Кто знает? Только не я.
— И ты после был красноармейцем? В пятнадцать-то лет? А потом?
— Потом я был безработным. С горя учился немецкому языку, а почему — не знаю… Просто шел по Невскому. Смотрю: курсы Берлиц. Все бесплатно. И мне давалось легко.
— Настоящим безработным? У нас? И долго?
— У вас. И у нас… Долго… «И плакал за вьюшкою грязной над жизнью своей безобразной…»
— У тебя начинается?
— Собирается… да… — рассеянно проговорил он.
На этот раз не обошлось домашними средствами, была долгая боль, путаница, прояснения и новые погружения в топкое болото беспамятства и отвратительно яркие, точные сны. Или не сны?
Невыносимая теснота давила его со всех сторон, ломила плечи и грудь, он протискивался, вжимаясь в узкий, все сужающийся проход, полз на животе, потом боком, в такой тесноте, что плечи застревали и надо было одну руку просовывать вперед, а сверху давила своей массой громада земли и камня, чью невыносимую тяжесть он чувствовал всей внутренностью, сердцем, грудью или еще чем-то, что било в набат, сопротивлялось, требовало, чтоб он повернул назад, потому что оно — это то, что в нем было, — знало, что погибает, и не хотело погибать, а он толкал свое сопротивляющееся тело все глубже в тесноту обвалившегося хода.
Временами он полупросыпался, понимая, что это тоже сон. На самом деле он лежит, как всегда, на своем месте, на трехэтажных нарах, упираясь подогнутыми коленками в перегородку, ведь он еще не бежал! Значит, никто за ним не гонится. Да, да, он еще не бежал! Ужас погони и подземной тесноты медленно его отпускает. Он просто лежит на своем месте в лагере, в своем блоке, и вот-вот ударит, точно железным прутом по голому телу, звон сигнального рельса, от которого вскакиваешь еще спящий, с закрытыми глазами, не успев проснуться. Рельс еще не зазвенел, длится последнее сонное мгновение покоя, а где-то, наверное, рука уже замахивается ударить, заколотить по подвешенному обрезку рельса, вышвырнуть тебя из твоего последнего одиночного укрытия сна в общий, реальный мир полосатых курток на ветреный простор аппельплаца, где ты, как голый в своей беззащитности, стоишь и часами трясешься от холода, стараясь не пошатнуться сам и помочь не упасть тому, кто стоит, сдерживая дрожь, в строю справа и слева.
Но пока он еще лежит на нарах, еще не было сигнала. Он давно потерял надежду на солнце в окошке. Он знает, что наяву никакого солнечного света с его сияющим пахучим теплом тут не может быть, и только старается всеми силами длить это последнее мгновение неясности на пороге сна и яви, удержаться и не переступить, пока солнце как бы еще светит сквозь его сомкнутые веки и даже возникает какой-то цветной узор, залитый светом. Бегут, ныряя друг под друга, переплетения разноцветных жгутиков, — наверное, это воспоминание о половичках, какие стелили когда-то на полу. Где-то совсем в другом, потерянном мире.
Шевельнувшись, он замечает, что лежит как-то не так, почему-то вдоль, а не поперек. Виском, щекой он чувствует край и приоткрывает глаза, полные приснившегося света, смотрит на пол, все еще залитый светом, совсем как было во сне. Плетенный из разноцветных тряпочек, выпуклый узор дорожки он узнает сразу. Яично-желтые, травянисто-зеленые, детски-розовые полоски, сплетаясь в крестики, квадратики и уголки, повторяющимся узором бегут, как пестрый ручеек, по полу, через всю комнату, к высокому порогу входной двери.
Тишина вокруг. И запах остался тот, что снился ему во сне, запах очень старых бревен сруба, пропахшего дымом — жарким дыханием дерева, некогда сгоревшего в печи темными снежными зимами много-много лет назад.
Теперь страх, ожидание звона утренней поверки — все ушло в сон, а половичок, солнце, тишина— явь. Он в раю.
Из трех очень маленьких окошек в комнату бьют три ослепительных световых столба, в них играют, вспыхивают танцующие пылинки, и на полу, на дорожке лежат три сияющих квадрата с перекрестьями рам.
У печи сложена охапка кривых нарубленных сучьев. Это захватывающе интересно. До чего радостно их рассматривать. Все они разные, непохожие: раздвоенные рожки, стволики с шершавой корой, с кольцами розовой древесины на месте сруба — вольные, удивительной красоты топкие деревца и мягко изогнутые толстые сучья. Потом он любуется печью, радужными от времени стеклами окошек, их деревенскими рамами с облупившейся голубой краской.
В доме пусто, стоит тишина. Не та подземная, безжизненная, вечная тишина, тяжелая и сырая, враждебная живому человеку, какая была в шахте под землей, а живая, неполная… просто притихшая, мирная тишина. Ветер шелестит во дворе ветками кустов, налетая порывами, нежно и протяжно посвистывает, обтекая трубу на крыше. Ржаво скрипнет не затворенная хозяйкой дверь сарая. Ворона где-то вдалеке вдруг заладит настырно свое сварливое: к-р-р, крр, крр… И в гулком горном воздухе ее голос полон будничного мира солнечного утра, напоенного хвойным духом горного леса.
Хозяйка впустила его сюда ох как нехотя, через силу, еле-еле сдалась. Его привел человек, которого он и в лицо-то не видел — показали бы сейчас, он бы не узнал. Сказали: тебя отведут, иди за ним, он и шел в темноте, вслепую, за его спиной, только минутами различая лохматую меховую шапку-колпак.
Он до того обессилел, запутался, оравнодушел ко всему, что ему становилось уже почти безразлично, кто и куда его ведет. Он даже страха больше не чувствовал. Ни страха, ни надежды, ни мыслей никаких. Весь он был как выключен — мог только следить, чтоб не закрылись совсем глаза, а они то и дело сами закрывались, приходилось их насильно таращить, чтоб не потерять из виду все уходящую от него, покачиваясь на ходу, спину и шапку колпаком. Ноги, шаркая, передвигались шаг за шагом, терпели боль и усталость. Терпению-то он давно выучился, знал, что так и будет идти, пока не упадет совсем.