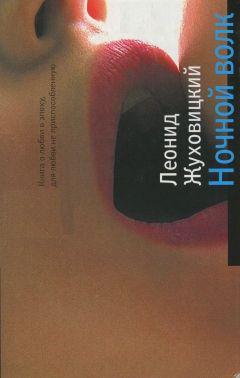Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
— Ну почему? — кричала она. — Почему?
Я взял ее за плечи и довел до стоянки такси. Она продолжала плакать, но тихо. Уже в машине она проговорила сквозь слезы:
— Ну почему? Столько людей! И именно к нему привязался этот проклятый Ковач!
— Болезнь Ковача, — поправил я.
— Ну, все равно…
Я довел ее до подъезда.
…Все–таки странная судьба у великих, врачей. В награду за все труды их имена вечно служат пугалом и проклятьем…
Юрке я про шведский препарат ничего не сказал. Впрочем, официально считалось, что он и о болезни своей ничего не знает…
Я к нему ездил каждый день и всякий раз заставал Иру. Она тут же стушевывалась, замолкала, только смотрела на нас своими тихими глазами, улыбалась иногда — она здорово слушала, и вообще было хорошо, когда она рядом. Странно, но я не смог бы вспомнить женщину, которая лучше, чем Ира, выполняла традиционную женскую обязанность: облагораживать мужскую компанию самим фактом своего присутствия. Часто мы с Юркой спорили — не потому, что была причина, а из–за моей дурацкой привычки сводить к спору любой разговор: о книгах, о фильмах, о футболе и даже о слонах. На пятой фразе я забывал, что Юрка болен, и мы орали друг на друга (Юрка больше огрызался), пока в какой–то очень подходящий момент Ира, которую тоже зажигал наш азарт, не спрашивала:
— Юр, можно я скажу?
И вмешивалась в спор с забавной дипломатичностью, но всегда на стороне Юрки.
Я приходил в больницу по–разному, вырывал время, в обед или когда попало — но Иру заставал непременно. То у нее был отгул, то брала за свой счет, то еще что–нибудь: кто их знает, как они устраиваются, женщины, каких в Москве миллион…
В больнице к ней уже привыкли, сестры и нянечки держали за свою, а врачи, по–моему, просто не замечали — у нее было лицо женщины, которая не приходит без дела.
Всегда при ней была сумка, большая, но приличная, универсальная сумка, сразу и выходная и хозяйственная, позволяющая по дороге в кино забежать в овощной, а на обратном пути еще и в сапожную мастерскую. Сумка была неисчерпаема, порой мне казалось, Ира носит в ней все свое имущество, от пудреницы до маленькой сапожной щеточки. В сумке она таскала яблоки для Юрки и пирожки с повидлом для себя. Если же Юрку уводили на процедуру, она пристраивалась у окна в каком–нибудь незаметном тупичке и доставала из сумки книгу. Пару раз я заглянул в текст — женщина, каких в Москве миллион, книги читала хорошие.
У нее теперь был свой белый халат — не обтрепанная больничная ряса, общая и ничья, а аккуратный халатик с пояском, похожий на домашнее платье. Ведь больница стала Юркиной жизнью, и Ира быстро и естественно стала частью больницы, прижилась, примелькалась и принесла с собой в Юрки ну палату тихий и спокойный уют. Я даже поймал себя на дикой мысли: заходить к Юрке в больницу было приятней, чем раньше к нему домой.
Когда приходила Рита, Ира исчезала, терялась где–то в больничных коридорах, сливалась с сестрами и санитарками, с белеными стенами. А через пять минут после ухода законной жены она уже сидела на стуле рядом с Юркиной койкой и читала ему вслух «Комсомолку» или «Советский спорт»: вечерами у него стали побаливать глаза. Когда Ира уходит, я не знал: как–то засиделся у Юрки до одиннадцати, и все равно она осталась после меня…
Во вторник меня вызвал редактор, велел взять машину и гнать в Шереметьево. Нам с Юркой еще раз повезло — посылка из Стокгольма пришла с попутным дипломатом.
Пакет был завернут в шведскую газету, и пока наша «Волга» жала к Москве, у меня перед глазами подрагивала реклама: голая девушка у зеркала. Что рекламировалось, я так и не понял — может, колечко у нее на тонком мизинце?
У Белорусского я хотел взять такси. Но Алексей, наш шофер, сказал, что не надо, сам забросит меня в Измайлово. Редактор велел обернуться часа в два, а где два, там и два с половиной.
Мы прокрутили Садовое кольцо и через Разгуляй вылетели на Бакунинскую. Пожалуй, впервые за последнюю неделю я с удовольствием глядел по сторонам. Когда застряли у светофора, я показал Алексею шведскую рекламу и спросил:
— Ничего девочка?
— В порядке, — оценил он, после чего выполнил долг семейного человека и гражданина, осуждающе пробормотав: — Совсем совесть потеряли… И что дальше будет?
Я пожал плечами. Что будет? Да ничего, наверное. По крайней мере ничего страшного. Больше–то снять нечего — кожу не сдерешь… Скорей всего начнут помаленьку одеваться…
У ворот больничного парка Алексей спросил, не подождать ли меня, — сегодня у него был приступ великодушия. Но я сказал, что не надо, — бог его знает, когда я выйду.
— Ну, гляди, — сказал он. — Поправится твой друг — ставь пол–литра.
Пол–литра… Да если бы Юрка выкарабкался…
Я шел парком к корпусу, и впервые за последнюю неделю было радостно глядеть по сторонам — на чистые асфальтовые тропинки, на тугую, еще летнюю листву, которую взгляд не пробивал насквозь, на синее небо над красными больничными корпусами. Бог его знает, почему, но я опять поверил в медицину. Ведь начнут же когда–нибудь лечить эту проклятую болезнь! Так почему бы не сейчас?
На лавочках перед входом негусто сидели посетители. Некоторых я уже видел: толстую грустную тетку, молодую женщину с мальчуганом, высокого старика, одетого со старомодной интеллигентной чопорностью. Замечал я и девушку, сидевшую рядом с ним. Ей было лет восемнадцать, не больше. И приятно было, проходя по парку, увидеть ее светлую косу и нежное лицо, склоненное над книгой, приятно было случайно поймать ее кроткий близорукий взгляд.
Сегодня мне в первый раз захотелось с ней заговорить.
Я быстро накинул халат и взбежал на второй этаж. В корпусе ко мне уже привыкли, сестры считали чем–то вроде практиканта, а больные — чем–то вроде врача. Сашки в ординаторской не было, и я пошел искать его по отделению.
В одной из палат я увидел его аккуратный чепчик и серьезный сухощавый нос. Сашка сидел на стуле между койками и обстоятельно отвечал на вопросы. Среди больных он был личностью популярной: постоянная серьезность производила впечатление.
Я подождал, пока он выйдет, и отдал пакет. Сашка спросил:
— Это что?
Я сказал, что прислали из Швеции.
Мы прошли в ординаторскую, и Сашка, развязав ленточку, аккуратно развернул газету — он вообще ничего не делал наспех. Потом открыл коробку из синего веселенького пластика.
Я глядел, как из коробки появлялись на свет божий пакетики и ампулы. Их было довольно много.
Потом Сашка уткнулся в письмо. Оно было написано по–английски. Кое–что Сашка не сумел разобрать, я ему помог. Я смотрел в письмо через его плечо, но там было слишком много латыни.
Потом Сашка с минуту шевелил белесыми бровями.
— Любопытно, — сказал он. — Просто даже интересно.
Снова уткнулся в письмо, пару раз задумчиво хмыкнул и сказал мне:
— Чертовски сложная методика.
Я спросил:
— Что там написано?
— Там написана любопытная штука, — сказал Сашка и опять пошевелил бровями. — Это, пожалуй, могло бы подтвердить вирусную теорию лейкоза…
Он был невменяем, и я попытался сам разобраться в письме. Но на третьей же фразе меня остановила латынь — мертвый язык, оставленный в устрашение живым.
Тогда я взял Сашку за плечи:
— Старик, очнись. Скажи хоть что–нибудь!
Он улыбнулся и сказал:
— Понимаешь, методика чертовски сложная. Но мыслит он здраво.
— Кто?
— Этот швед.
— Юрке поможет?
Он ответил:
— Вот это как раз надо проверить.
— А когда выяснится?
— Дней через десять. Препарат опытный, дальше собак у него не шло.
Я сказал:
— Мне сейчас в редакцию. Давай встретимся вечером? Хоть объяснишь толком!
Он мотнул головой:
— Вечером не могу, я ночевать тут буду. Понимаешь — чертовски сложная методика. Уколы через два часа, возможны аллергические явления…
Я предложил:
— Давай я с тобой ночью подежурю. Можно?
Он малость помедлил:
— Можно–то можно… Только знаешь чего? Ты лучше сегодня не приезжай, ладно? Ну просто настолько сложная методика…
Он был похож на автомеханика, осторожно и азартно приступающего к машине неведомой марки.
— Ладно, — сказал я. — Действуй, старик, счастливо тебе!
Он улыбнулся — но не моим словам, а чему–то своему.
— Понимаешь, — сказал он, — наконец–то работа! Я же врач, мое дело лечить.
Вот уж никогда не подумал бы, что этот парень может изъясняться так возбужденно и торжественно…
Уже в дверях я спросил, стоит ли рассказать про лекарство Юрке, и он ответил, что стоит: психологический фактор…
У Юрки только что кончился обед. Он сидел на кровати, а Ира, как всегда, на стуле рядом.
— Ну, чего там, на свете? — сказал Юрка.
Я ответил:
— Аристократия проклятая! Зажрались, сволочи, — мало вас давили в семнадцатом… — Это ж надо додуматься: лекарство им на самолете доставляют из Стокгольма!