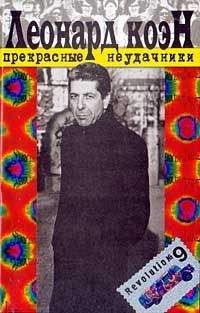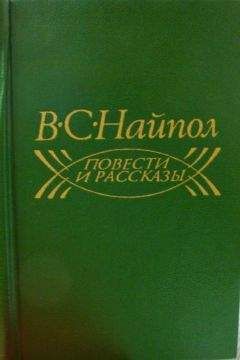Фзнуш Нягу - Властелин дождя
— Тпру! — крикнул верховой, и его гнедой с подпалинами конь сразу остановился, шумно всхрапнув.
Человек наклонился и вытащил удила.
— На кой дьявол вам столько рыбы? — спросил он с отвращением. — Диких кошек, что ли, приманиваете — для шкурок? На-ка, парень, держи. — И, не дожидаясь ответа протянул Акиму бутылку цуйки, обернутую куском мешковины. — Вечером у тебя родился сын. Буди ребят, выпейте за здоровье Акима-младшего.
Аким застыл с широко открытыми глазами. Удивление быстро сменилось радостью, и он потянулся к всаднику, намереваясь стащить его с лошади. С поднятыми руками он стал похож на рубаху, вывешенную для просушки возле вагончика трактористов. Верховой уклонился от объятий Акима, и его стройный, стянутый ремнем с громадной желтой бляхой торс затрясся от смеха. Он пришпорил коня, пустил его галопом, и вскоре ночные тени поглотили и коня, и всадника.
Над полем зависла густая, пронизанная луной тишина.
Слышь, Аким, что он сказал? — спросил себя ошеломленно парень и зачем-то начал судорожно рыться в карманах. И вдруг с удивлением понял, что ищет зайца, которого поймал во сне. Взял бутылку с цуйкой, поднес ко рту, отхлебнул глоток. Долговязый, лицо обветренное, сизоватое, как из кованого железа, он стоял на краю дороги, и ему чудилось, будто он слышит шепот земли. Запах полыни обволакивал, душил. Аким кинулся было будить ребят, но вдруг понял, что он — отец, а играть с ребенком не умеет, и остановился как вкопанный. Мысль эта показалась ему странной и глупой. Однако, рожденная страхом, что живет в каждом человеке, холодная, болезненная, она все больше овладевала им. Освещенная луной земля показалась Акиму заснеженной, и он вспомнил себя пятилетним ребенком с деревянными коньками в руках. Он вышел тогда покататься на пруду, но вдруг завьюжило, завыло, и он очутился в чистом поле. Потом всю зиму пролежал в чужом доме, у чужих стариков, которые нашли его на берегу реки, под обрывом. Он выздоровел, но лицо у него осталось изуродованным, словно обожженное известью. Мальчик не знал, чей он и откуда его принесло бураном, и навсегда остался жить в неродной деревне.
«Бабушка, когда я буду опять красивым?» — спросил он как-то старуху.
Дети не играли с пришлым мальчиком. Старик никогда не ласкал его: было противно его уродство.
«Скоро, скоро, золотце мое, — вздохнула старуха. — Помрет твоя тень, тогда ты и обернешься добрым молод- цем. Господи милосердный, покарай его родителей нехристей: недоглядели за мальцом, вот его и унес ветрище на чужбину!»
Аким решил убить свою тень. Он швырял в нее камни, топтал ногами. По вечерам, когда тени удлиняются, выходил за ворота, на дорогу, по его тени проезжали колеса телег, а соседские мальчишки хлестали ее хворостинами. Но тень оставалась целехонькой и невредимой. Однажды, стоя на обочине, он увидел приближающуюся машину — это каток утрамбовывал щебенку. Он переехал бы его тень, но Акиму вдруг стало жаль ее, и мальчик отступил от дороги. И тень осталась неразлучной с ним, делила его тоскливое, как горькая дойна, одиночество. Девушки избегали его. Женился он поздно, в тридцать лет, и вот теперь у него родился сын.
— Аким, мальчик, ты будешь звать меня по имени, — заговорил он с сыном. — И никаких «вы».
— Хорошо, как ты хочешь… — услышал Аким-старший ребячий голосок. — Давай играть, научи меня.
Так твою, растак! — ругнулся про себя Аким и пошел к бытовке, чтобы разбудить бригадира Мишу Позэ, у которого было двое детей. Он потряс его за плечо и зашептал:
— Мишу… Слышь, Мишу…
— Заприте покрепче дверь! — испуганно вскрикнул Мишу, подскочив на постели и натянув одеяло до подбородка.
— Ты что, очумел? — обиделся Аким. — Своих не признаешь. Протри зенки.
— А, это ты, Аким, — сказал Мишу, продолжая сидеть привалившись спиной к стене. — Тьфу, ну и чертовщина мне приснилась. Бегу я по коридору, а за мной наш бухгалтер будто гонится. И вроде он полубык-получеловек, на пятки того и гляди наступит и метит в меня лемехом от плуга… Сколько сейчас времени?
До утра далеко, спи, — сказал Аким и вышел из бытовки.
Не стоило будить, подумал он. Ну что может сказать про детей человек, которому снятся такие дурацкие сны?! Обзавелся детьми, так припоминай по вечерам красивое. Листья, траву. Тогда и сны будут хорошие. Вот если я лягу сегодня ночью спать, то увижу дроф, да-да, дроф…
Аким пересек поле и стал неуклюже взбираться на бугор. Карабкаясь по склону, он мечтал, впервые мечтал по- отцовски. Будто идет он полем с Акимом-младшим. Дождь виснет густой сеткой, постукивает мелко и убаюкивающе по крыльям, которые простерли над ними двадцать дроф. Они с сыном идут в кромешной тьме, под частым ливнем, но им не холодно, озябли только ноги. Дрофы летят, не отставая ни на шаг, держат над ними навес из крыльев. Отец и сын идут, идут, и у них у самих вырастают дрофьи крылья, и оба они взлетают в небо, к тучам…
Поднявшись на самую верхушку сглаженного ветрами косогора, Аким остановился. Прислушался к короткому треньканью колокольцев на шеях у овец, что спали сейчас в загоне возле рощицы. Втянул ноздрями воздух, настоянный на запахе молока и навоза. Прислушался к переливчатым редким звукам и вдруг решился на что-то.
— Пасалак!.. Гогу!..
— Эгей, — прозвучал в ответ молодой голос. — Чего тебе?
— Держи псов, а то я без палки.
— Да нету их. Гогу собак в деревню с собой забрал. Сговорился с чьей-то кралей. Поди, третий вечер туда бегает — и псов с собой уводит.
— А ты обработал бы его на кулачной фабрике. Он бы живо бегать перестал.
— Можешь побожиться? — хмыкнул плечистый коротышка, выходя из-за колодезного сруба. — Братца моего не знаешь? Махнет кулачищем — как муху прихлопнет… Глянь, как вызвездило, — сказал он, запрокинув голову. — Звездищи — что тебе куски мамалыги, бери и ешь, только молочка подлей.
Аким присел на край колодца.
— Послушай, Пасалак, — начал он, глядя на парня в упор. — Дело есть. Но смотри — никому! Ставлю угощение. Вино. Красное.
Насчет выпить я не дурак, лучше не дразни. Меньше четырех не принимаю — и пачкаться не стану.
— Идет, ставлю четыре.
Накинь килограммчик азотного удобрения.
— На кой ляд оно тебе?
— Вино студить. Кинешь горсти две в ведро с водой, она вмиг замерзнет. Главное, чтоб в тесто не попало, как у жены Фойке Бруну, тогда — каюк, живот с бочку вздуется. Ну, об што речь?
— Выпусти ягнят из загона в поле. И баста.
— Издеваешься, парень? — спросил Пасалак разочарованно, не веря своим ушам.
Ты что? — откликнулся Аким. — Хочешь, задаток дам? Хочешь, за все вино сразу заплачу?
Убедившись, что Аким не шутит, Пасалак распахнул дверку из акациевых прутьев и полез в загон. За перегородкой гулко защелкал кнут. Ягнята вскакивали, метались, и казалось, что в загоне колышутся серые волны. Крайние испуганно тыкались мордочками в изгородь, словно на них напали волки. Пасалак коленями подталкивал кувыркавшихся через головы ягнят и гнал их к проему, где ждал Аким. Они грудились у выхода, торопясь выскочить в поле. Аким лег на их пути, поперек канавки, вырытой для стока дождевой воды. Вожак стада, барашек с узкими, как лезвие, рожками, замешкался, потом, собрав силы, прыгнул. Аким почувствовал, как по его плечам и ногам простучали легкие копытца. Уткнувшись лицом в траву, он улыбался и ждал. Ягнята, напуганные щелканьем кнута, бежали рядком по его спине, стуча маленькими круглыми копытцами. От их ударов покалывало под ребрами. Выгоревшая от солнца и ветра рубаха лопнула во многих местах. Ягнята суматошно и бестолково бежали к этому мостику над канавой, разогнавшись, прыгали, падали на землю, вскакивали и бежали дальше. Дробно и часто постукивали их копытца, и Акиму казалось, что он играет со своим сыном.
— Аким, малыш, ну и здорово ты расшалился! — прикинулся рассерженным Аким-отец. — Я ведь сильный, вот схвачу тебя за ноги и кину на луну.
Аким протянул руку, чтобы поймать сына, но его ладонь наткнулась на влажную ягнячью мордочку. Аким засмеялся, сбросил ягненка. Драчливый ягненок тут же вернулся, стал бодаться безрогим лбом. Аким подхватил его на руки и почесал за ушами. Над ушами ягненка висели кудряшки, а глаза, как показалось Акиму, смеялись; и в ту же минуту последний остаток страха улетучился, растаял.
— Эй, парень, поздно уже, давай-ка ложиться спать, — сказал он сыну.
1964
Открывая реку…
Лето. Полдень лениво разыгрывает на поле свою странную, непонятную игру. Прожаренный солнцем песчаный обрыв реки искрится желтизной.
У брода бабка Параскива стирает белье. Она замачивает его в реке, прополаскивает, скрутив, кладет на камень и бьет скалкой. Рядом с ней, часто моргая от горячих солнечных волн, Бэнике греется на песке. У него голова козленка, льняные нечесаные волосы и пятки, черные от яблок, что ночью стряс ветер. Поутру бабка Параскива собрала яблоки в корзинку, а Бэнике украдкой ото всех залез туда с ногами, передавил яблоки и скинул в колоду свиньям.