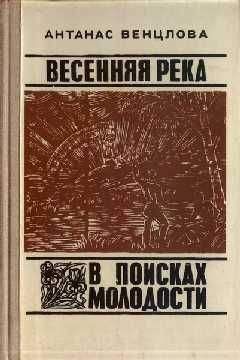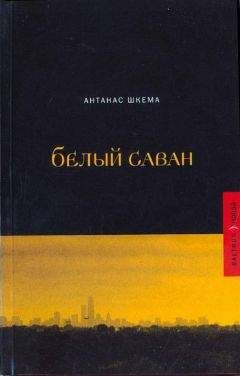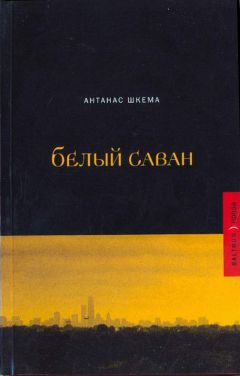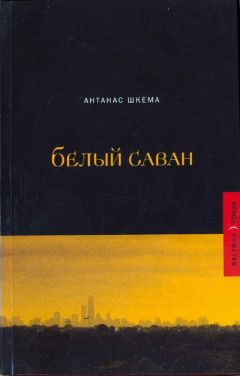Антанас Венцлова - Весенняя река
Пранукас лежал в ивовой плетеной зыбке. Зыбка висела на очепе — гибкой жердине, накрепко привязанной веревкой к потолочной балке, недалеко от кровати, в которой спали мама и отец. Качался тот конец жерди, к которому была прикреплена зыбка. Днем, едва только Пранукас принимался кричать, я спешил к зыбке и качал его вниз-вверх или в стороны. Когда мне это надоедало, я принимался трясти люльку так, что мама, сидя за прялкой, кричала:
— Сдурел ты, что ли? Еще ребенка выронишь!.. Ребенка я, конечно, не ронял. Если Пранукас все равно не затихал, мама, расстегнув ворот, давала ему грудь или совала в рот тряпочку с завернутым кусочком сахару. Потом в избе появился даже резиновый рожок, который Пранукас сосал с удовольствием. К рожку присоединялась резиновая кишка, в нее же засовывали стеклянную трубочку, которую опускали в бутылку с молоком. Ребенок сосал молоко, по словам отца, как барич. Мне оставалось только придерживать бутылочку, чтоб не разлилось молоко.
Пранукаса принес аист, это было для меня ясно и неоспоримо. У аиста его взяла тетя Рачювене из Гульбинаваса и принесла к нам в избу. Так она поступала со всеми детьми в деревне. Мне лично казалось, что дети водятся не на болотах вокруг озера, как об этом толковали, но скорей уж в аистином гнезде — на колесе телеги, которое мужики приладили на крыше гумна.
Ходили слухи, что иногда тетя Рачювене находит детей в огороде под капустным листом. Всякое бывает.
Так или иначе, Пранукас рос, и хлопот у меня прибывало. Он уже кое-как держался на тоненьких ножках, и его засунули в так называемую стоялку. Это был снаряд, который отец смастерил несколько лет назад для нас, старших. Им пользовался и я, и Юозас, и кажется Забеле. Снаряд этот был совсем простой. Внизу — несколько дощечек, в них просверлены четыре отверстия, туда вставлены четыре колышка. Наверху они держали круглый обод — колесо от прялки (разумеется, без спиц и ступицы). В это колесо засовывают ребенка, под мышками у него обод колеса, он не может упасть, и все выглядит довольно мило. Иногда ребенку в стоялке нравится, и он так стоит битыми часами, а бывает, он сразу же начинает проявлять нетерпение и нелюбовь к дисциплине. Тогда бери его на руки, носи, суй ему всякие игрушки.
Пранукас подрос уже настолько, что сам бегал по избе, шлепая босыми ножками. Мне надо было следить, чтоб он куда-нибудь не залез, скажем, под печь, где сидели куры, чтоб не выпачкался на кухне сажей из зольника, чтоб не ударился головой об угол лавки или скамьи. Зато и мне, когда я оставался один с Пранукасом, стало привольней.
Вот мама, тетя Анастазия и девочки взяли ивовые корзины, закутали головы платками, натянули на ноги толстые чулки и ушли в поле. На дворе дул пронизывающий ветер, было холодно, а в Концах еще оставалось много неубранной картошки. Отец с Пиюсом отправились раньше — Пиюс вел за узду кобылу, а отец придерживал за рукоятки плужок, которым он будет выпахивать картошку. Я бы хотел поглядеть, как копают картошку, но мама побоялась, чтоб Пранукас на поле не простыл, и велела беречь его как зеницу ока. Она оставила нам кружку молока и хлеб — этого должно было хватить до вечера.
Я притащил из чулана целую груду чурок, которые насобирал еще зимой, когда отец работал у верстака. Чурки красивые, белые, пахнут смолой. Пранукасу они понравились, и он долго складывал их одну на другую. Иногда получались крохотные домики, которые, увы, тут же разваливались. Пранукас снова упрямо складывал чурки, то составлял из них четырехугольные башни, то делал загончики для скотины. А за скотину были всякие камешки — в отдельной коробочке у меня лежали песчаник, кремень, слюда. Это были наши коровы и лошади, утки и гуси. Не только Пранукасу, но и мне эти зверюшки казались живыми, хотя они не двигались, не ржали, не мычали и не гоготали.
Когда Пранукасу наскучило играть чурками и камешками, я взял с кухонного окна кусочек мыла. Размазал его на доске, налил капельку воды и вытащил из кровати соломинку. Пранукас во все глаза глядел, что я делаю. А я нашел ножницы, отстриг у соломинки конец, второй конец расщепил. Приставив этот кончик к размокшему мылу, зачерпнул капельку мыльной пены и принялся дуть в соломинку. На конце соломинки появился крохотный пузырек. И тут же, только за окном сверкнуло солнце, он засиял всеми цветами радуги. Я дул мыльный пузырь, а Пранукас восхищенно глядел на меня как на какого-то чародея. Он встал с полу и, визжа от радости, принялся скакать вокруг с криком:
— Дать мне! Дать мне!
Я подал ему соломинку с пузырем, но, едва он взял ее в руку, пузырь лопнул. Я и так и сяк старался, чтоб он понял, как надо выдувать пузыри, но Пранукас, видно, еще мал для таких дел. И я снова и снова пускал пузыри, они даже поднимались в воздух — сколько радости для Пранукаса! Он их ловил, но чаще не успевал добежать до пузыря, как тот уже лопался. Не так ли лопнули многие паши мечты зрелых лет?..
Когда, пузыри надоели, я вытащил из-под кровати ящичек Юозаса. В ящике было много всего — ухнали, подковки от сапог, замочки, к которым Юозасу не удалось подобрать ключи, сверкающие солдатские пуговицы, — словом, это была неисчерпаемая сокровищница. Когда я открыл ящичек, Пранукас сел к нему и принялся складывать в кучки разные вещи с таким рвением, что я решил дать себе хоть минуту отдыха.
По правде говоря, все эти игры мне уже порядком надоели. Меня привлекали другие, более серьезные дела. Оставив Пранукаса в комнате, я отправился в чулан, взобрался на печь и с нее легко достал отцовы книги, стоящие на полке. Особенно меня манил календарь. Открыв страницу, на которой был нарисован лохматый нестриженый мужик, оборванный, с большим носом, я принялся читать напечатанные под картинкой строчки. Они мне очень нравились, от них веяло чем-то печальным и даже жутким:
Полюбил Тадас стопку,
В кабаке хлестал водку,
Спился он понемножку…
Рожа сине-багрова,
Захирела утроба,
Так допьешься до гроба!..
Хотя отец и не пил, во всяком случае я никогда его пьяным не видел, по, по рассказам, я отлично знал, что такое пьяницы и водка. Я же бывал в Любавасе, а там пьяниц хоть отбавляй.
Потом я начал читать про Наполеона. Отец рассказывал, что уже сто лет минуло с той поры, как Наполеон шел через Литву на восток. Он хотел занять всю Россию, но начались большие морозы, и Наполеон, рассказывал отец, на санях убежал через Калварию и Варшаву и больше не вернулся. В статье про Наполеона было много непонятных слов — Березина и Смоленск, авангард и арьергард, упоминались какие-то генералы — Кутузов, Ней, Мюрат и множество других. Все это путалось в голове, и нельзя было ничего понять. Но все время чудилось мне, как этот великий Наполеон несется в Варшаву через Калварию на санках, точно таких, на каких мы зимой катаемся с горы, — испуганный, унылый — и только несется, несется, чтоб его не поймали. И, по правде говоря, становилось жалко бедного Наполеона…
Чем дальше, тем больше привлекала меня эта книга. Ей-ей, она была интересней многих других. Здесь была удивительная сказка про Эгле, королеву ужей. От этой сказки просто дух захватывало. Море, король ужей Жильвинас, янтарный замок на дне моря, чудесное путешествие с детьми в гости к старым родителям… А дойдешь, бывало, до того места, где дети Эгле превращаются в деревья (эту сказку я читал уже не раз и все не мог начитаться), и сердце начинало биться сильнее. Уже казалось, что ивы, которые растут за нашим гумном, и тополя, что за хлевом, и липы у ворот — все это дети бедной Эгле. Даже мороз по коже подирает. Какой необыкновенный и волшебный мир!
Потом я нашел стихи, которые тоже мне нравятся. Я не раз уже слышал их от отца, но прочитал снова:
Цеп за цепом, цеп за цепом —
На току работа.
Чтобы голода не знали,
Хлеба намолотим.
Треск соломы, шорох зерен —
Вчетвером колотим.
Цеп за цепом, цеп за цепом —
До седьмого пота!
Кажется, так и вижу гумно, полумрак, ток, на котором раскиданы снопы ржи, а отец с Пиюсом дубасят их цепами, иногда им помогает и тетя Анастазия, хоть она и жалуется, что это дело не женское. Кажется, я так и слышу буханье цепов по снопам, слышу, как трещит солома и из нее с шорохом сыплется зерно…
Под стихами странная подпись «Людас Гира».[6] Что это значит, не знают ни отец, ни Пиюс. «Наверное, это человек, который написал эти стихи», — сказал однажды отец. И у меня почему-то не выходило из головы, что вот откроется дверь нашей избы и войдет барин вроде хозяина трямпиняйского поместья Аушлякаса, высокий, с бородой, с городской тросточкой в руке, и скажет: «А я еще и не такие стихи написал! Хотите — послушайте!»
Вдруг я вспомнил про Пранукаса. Может, и не вспомнил бы, не зареви он. Услышав крик, я торопливо сунул на место календарь, спрыгнул с лежанки и помчался в избу. Пранукас стоит у шкафчика и орет во всю глотку. Шкафчик открыт. Но господи, это что такое? Из корзинки, куда мама клала яйца на продажу, Пранукас хватал по яйцу и швырял об пол. Яйца, конечно, разбивались, разбрызгивались по полу. Бросал он до тех пор, пока не выбросил последнее — десятка два яиц кокнул! Оттуда же он достал и разбил фарфоровую чашку, такую красивую, что мы даже молоко пить из нее боялись, чтоб нечаянно не уронить. И вот эта прекрасная наша чашка, которую тетя Анастазия привезла из самого Вильнюса, где она ходила по святым местам, лежит в яичной тюре, разбитая вдребезги!