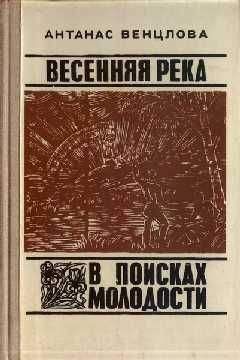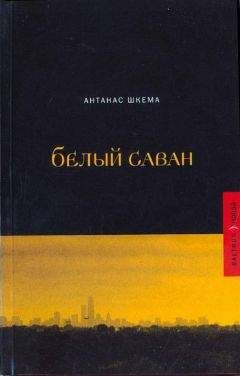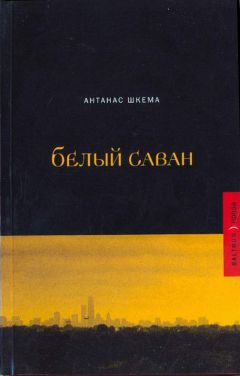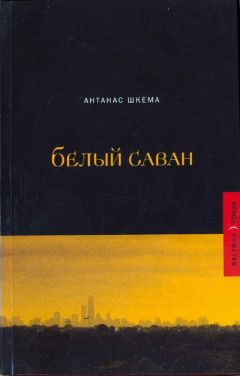Антанас Венцлова - Весенняя река
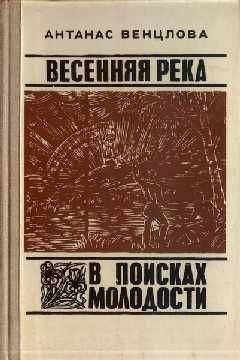
Обзор книги Антанас Венцлова - Весенняя река
Антанас Венцлова
ВЕСЕННЯЯ РЕКА
Как мало шума производят подлинные чудеса! Как в общем просты основные события жизни! О моментах, которые я хочу передать, можно рассказать так мало, что мне нужно снова пережить их в грезах…
Антуан де Сент-ЭкзюпериКнига детства
ОГОНЕК ОЧАГА
Человек приходит из сна. Он просыпается не сразу и еще не понимает, что сон кончается и начинается явь. На ресницах еще виснет сладкая дрема, но вокруг уже слышатся звуки, новые и поразительные. Качаются деревья. Летят облака. Улыбаются или злобно морщатся люди. Вокруг — непонятный мир.
Изба кажется невыносимо большой — ни конца ей, ни края. По углам таятся тени, они съеживаются и снова расползаются, как подошедшее хлебное тесто. На дворе темным-темно. Становится зябко, неприютно, и хочется зареветь.
Но беззвучно горит огонек очага. Это он загоняет в углы темные тени. Это он освещает лица людей, и они веселеют. Огонек — я понимаю это гораздо позже — разложен на куче камней, которая и называется очагом, над пламенем висит чугун, поначалу он безмолвствует, потом принимается булькать, попискивает, как-то чудно скулит. Изредка к нему подходит кто-нибудь из женщин, мешает поварешкой или, зачерпнув варева, дует, осторожно пробует. Чугун пыхтит, шипит и жалуется. А я сижу на коленях у сестры и гляжу, как весело трещит огонек. Искры щелкают и скачут, разлетаются по избе и гаснут на твердо утоптанном полу. Сестра не то поет, не то приговаривает:
Те-ре-ре-ре-рерь!
Не пролезу в дверь…
Брошусь в дымволок —
Ушибу пупок,
Выкинусь в окно —
Разобью яйцо…[1]
Смысла слов я еще как следует не улавливаю. Знаю, что такое окно, что такое дымволок, но где лежит это яйцо, которое можно разбить, мне не ясно. Широко открыв глаза, я гляжу в чернеющую в потолке дыру.
Со двора входят люди. Они огромные, в сермягах, в заячьих треухах. Они топчутся у порога, от клумп откалываются плотные ломти снега. Потом снимают сермяги, и первым ко мне подходит отец. Я его уже знаю. И хорошо и страшно, когда он приближает ко мне лохматую голову и лицо со щекочущими заиндевевшими усами. Он берет меня на руки. Я иду охотно — мне уже надоели объятия сестры и ее песенка про дымволок, которую я слышу десятки раз каждый божий день. Отец поднимает меня, даже не поднимает, а подкидывает и ловит руками. До того хорошо — как будто снова возвращаешься в теплый сон, где летаешь, падаешь и никак не можешь упасть на землю. А отец звонким, приятным голосом выкрикивает:
Вот большой мужчина,
Мужчина-молодчина…
Потом он опять отдает меня сестре, а сам — крупный и большой — шагает к столу. Там, взяв в охапку большой круглый каравай, разрезает хлеб. Мама между тем разливает по глиняным мискам похлебку. Похлебка дразняще пахнет, дымится, вся изба наполняется ее запахом.
Отец спускает подвешенную под потолком на проволоке лампу, снимает стекло и вытирает его пальцем. Выкрутив фитиль, берет из очага горящую щепку, подносит к лампе и зажигает. Пламя взлетает вверх. Отец подкручивает фитиль, надевает стекло. Лампа озаряет избу желтым унылым светом, в котором все-таки видны головы людей. Я уже малость их различаю. Люди сидят за широким деревянным столом. Они крестятся, берут ложки и хлебают из двух мисок — старшие сидят на одном конце стола, младшие на другом. Рядом с отцом сидит тетя Анастазия, мама, дальше — сестра Забеле (Кастанция держит меня на коленях), братья Пиюс и Юозас. Отец о чем-то рассказывает, все слушают, изредка вставляя вопросы. Тетя Анастазия ругает моих братьев, навалившихся на миску. Мальчишки брызгаются, колотят друг друга ложками по лбу. Наконец отец принимается молча шарить у пояса — вот он снимет ремень! Это движение, видно, хорошо понятно всем, и за столом снова тихо.
Вечер, люди топчутся по полу, галдят, отец пристраивается вить веревки. Кудель мало-помалу тает, вьюха ходит быстро, и на нее накручивается тонкая веревочка. У отца в зубах висячая с длинным чубуком трубка, из нее с пыхтеньем валит дым. Иногда дым добирается даже до меня, ест глаза и горло, и я кашляю. Мама говорит:
— Бросил бы ты свою смоктелку — видишь, дышать нечем…
— Ничего, легкие крепче будут… — говорит отец и снова пыхтит, а когда трубка гаснет, идет к очагу, роется в догорающих головешках и прикуривает от уголька или кладет в головку кусочек пылающего торфа.
После ужина я перехожу с рук сестры на мамины. Мама пахнет молоком, как тетя — яблоками, а отец — еловой хвоей. На руках у нее мне тепло, уютно, я не боюсь темноты, притаившейся по углам.
Мама напевает песенку. В ней мало слов. Песенка тоже какая-то уютная. Мне чудятся зайчата, бегущие по полю, барашки, кудрявые и мягкие, добрые утята и рябые курочки. Я снова возвращаюсь в сон, из которого недавно явился, и не знаю, где лучше — во сне или наяву. Глаза смежаются, и я погружаюсь в теплое, тенистое царство сна.
ПОЖАР
Много позднее я понял, что случилось на самом деле. Об этом событии долго рассказывали все — отец, мама, Кастанция, тетя Анастазия… Для всех это было бедой. А для меня — что-то неожиданное и даже радостное…
Кастанция держала меня на руках. Я глядел, как в старом нашем садике вылезают из летка в колоде пчелы и с жужжанием взмывают в воздух.
— Пчела кусается! — кричу я, размахивая рукой. — Пчела плохая!
— Нет, пчелки хорошие, — говорит мне Кастанция, — они принесут сладкого-пресладкого меду…
За изгородью вдруг что-то засветилось. Кастанция закричала, из избы выскочила тетя Анастазия. Мы уже были в переднем дворике, и я все вертел головой, стараясь разглядеть, что творится там, где стоит дом Кастантаса Бабяцкаса. День погожий, — наверное, весна, может, осень, небо — синее, спокойное. И все чаще слыхать, как во дворе Бабяцкасов кто-то кричит, громко и все одно и то же:
— Спасите, горим! Спасите, горим!
Вдруг сквозь листву деревьев я увидел, что из окон избы Бабяцкасов валит дым; вылезают длинные красные с белым языки и лижут соломенную крышу. Снизу, из-за дороги, где стоят деревенские хлева и сенные сараи, уже бегут люди, торопливо взбираются на наш пригорок и незнакомый, длинноволосый без шапки человек кричит:
— Багор где? Куда багор дели?
Что такое багор? Но вот появляется отец, он тащит длиннющую палку с каким-то железным крюком на конце.
— Вот багор! — кричит он. — Только тут багром не управишься!
На пригорок, где стоят наша и Бабяцкаса избы, прибежали женщины с деревянными ведрами. Ведра болтались на коромыслах, а коромысла качались на плечах у женщин. Из ведер на сухую тропу плескалась вода. Какой-то человек повалил изгородь нашего садика со стороны Бабяцкасов. Теперь женщины тащили воду прямиком через садик. Когда опрокинули в огонь ведро, вверх ухнули клубы пара и дыма. А пламя струилось по крыше, выложенной большими зелеными лепешками мха, и вскоре вся изба побагровела, затопленная пламенем.
— Глядите, чтоб не перебросилось! — кричал отец.
— Может, бог даст… Ветра-то нету… — успокаивала мама, снимая с изгороди давно высохшее белье.
А мне было страшно весело. До того все это было неожиданным и красивым, что я только боялся, как бы Кастанция не унесла меня отсюда. Светло, даже в глазах рябит, а теплынь, как у очага. И впрямь Кастанция повернулась и понесла было меня вниз по тропинке вдоль избы, но я закричал и заплакал:
— Не хочу, не хочу…
— Ну и храбрец ты у нас, — сказала Кастанция и, отойдя подальше от пожара, снова остановилась. Над ее плечом я увидел, как рухнула крыша и вверх взлетел рой искр. Это еще красивее, чем когда дом просто горит.
А люди все носились вокруг. Бабяцкене плакала, держа в охапке перину, давно вытащенную из огня, а Андзюлявичене тараторила с кем-то:
— Поглядели мы в окно — а дымищу-то!.. Думаю — хлеб Бабяцкасы пекут. А мой-то и говорит: «С вечера ж не ставили, что они там пекут?»
— Что уж тут поделаешь! — говорил отец. — Надо только глядеть, чтоб другие избы не загорелись…
Когда крыша обвалилась, огонь вроде спал. Мама, кажется, только теперь увидела, что неподалеку стоит Кастанция со мной на руках.
— Чего тут глаза вылупили? — вроде рассердившись, прикрикнула она на Кастанция. — В избу идите!
— Да он не хочет… — попыталась отвертеться Кастанция.
— Не хочу, не хочу! — крикнул и я.
Но кто меня послушает? Несмотря на крики, меня затащили в избу и усадили на кровать. Ужас как нехорошо в полутемной избе после светлого двора. Почему-то меня одолела дрема. Увидев, что я тру кулаками глаза и зеваю, Кастанция сунула мне под голову подушку, накрыла ноги какой-то тряпицей, и я тут же заснул.