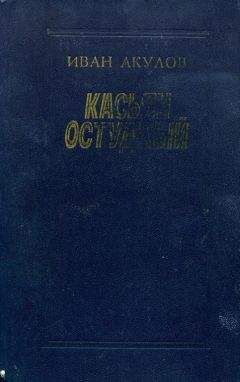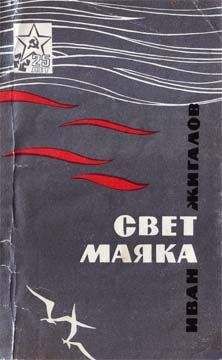Иван Акулов - В вечном долгу
— Эй, там! — крикнул из предрассветной мглы встречный.
— Уснул? Сворачивай: мы с возами.
Трошин спешно, не глядя вперед, натянул правую вожжу, и санки, легки на отвод, сползли с дороги, завалились в глубокий снег. Стали. Пока Максим Сергеевич, уцепившись за грядку, стремился не вывалиться в снег и встать на колени, к нему подошел парень в полупальто с поднятым воротником, из которого торчал только один козырек фуражки.
— Это вы, оказывается, Максим Сергеевич?
— Я. Что там?.. Что выездил?
— Семян пока не дают.
— Это надо было предвидеть. А с продовольственным?
— Дали пятьдесят центнеров. — Студеный голос парня звенькнул.
— Слава богу. Спасибо, Алексей Анисимович.
— Вы, должно быть, отпрашиваться? — спросил Мостовой, но Трошин за скрипом проезжавших мимо саней не расслышал его слов, а когда прошла последняя подвода и увидел на мешках Клаву Дорогину, не столько Мостового, сколько себя осудил:
— Напрасно вот посылаем женщин в такие поездки. Не женская это работа.
— Некого больше. А вы, значит, поехали?
— Да, Алеша. Хотелось мне с тобой поработать… Ну да ладно. Поддержи-ка, а то опрокинет, пожалуй.
Мостовой почти без участия лошади, одним хватом выбросил председательские санки снова на дорогу. Спросил, выпрямляясь:
— Хлеб — что?
— Мелите! Я вернусь — выдавать будем. Пусть Тяпочкин там документы подготовит. Пшел. Ых ты! — И под хрусткий лошадиный бег, под скрип полозьев хотел было додумать прерванное, но все мысли в голове тугим обручем охватило одно слово: карусель.
В райкоме по раннему часу было тихо. Вымытые полы в коридоре дышали чистотой и теплом. От круглых, в железе, печек тоже пахло теплом, домовитостью. Максим Сергеевич разделся, выпил из большого под белым чехольчиком самовара, стоявшего в коридоре, стакан горячей воды и, потирая, согрел левую, раненую руку, прошелся по коридору туда и сюда. Не спешил, хотя и знал, что секретарь Капустин уже давно у себя в кабинете. Уж таков у него порядок: в шесть утра на рабочем месте.
— Садись, — вместо приветствия хмуро обронил Капустин, не подняв от бумаг своего большого, в глубоких складках лица. Голый череп его, очевидно, сегодня побритый, свежо и тускло блестел, будто его смазали маслом. Маленькие уши на этом обновленном масляном черепе казались старыми, прожухлыми листьями. «Сидит, — подумал Трошин, — значит, разговаривать и не собирается. А потом народ полезет к нему. К этому, поди, и клонит…»
Но Капустин вдруг встал, как делал всегда при приеме хорошо знакомых людей, вышел из-за стола и, заложив правую руку за борт пиджака, начал ходить вдоль стены. Лицо его в тяжелых, слегка обвисших складках выражало натянутое, злое спокойствие.
— Я приехал, Александр Тимофеич, — сопровождая глазами секретаря, сказал Трошин.
— Вижу. — И не поглядел на Трошина.
— Я по-партийному, Александр Тимофеич…
— Не говори мне таких слов. Слышишь? — Он остановился против Трошина, пронзительно поглядел на него и, вероятно, не найдя подходящих слов, снова стал прохаживаться тем же спокойным шагом. — «По-партийному». Подумать только, колхоз лежит на боку, а он, председатель, извольте радоваться, приглядел себе где-то легонькую жизненку и теперь: отпустите его. «По-партийному». Так не делается, дорогой товарищ. Колхоз-то на боку? Тебя спрашиваю?
— Пластом лежит.
— Так какого же ты черта лезешь в райком со своей бессовестной просьбой! — Голос секретаря вздыбился, глаза расширились и побелели. — Где твоя совесть? Иди. Веревками к колхозу не привязываем. Но заруби на носу, из райкома вымету без партийного билета.
Под усами-скобочкой у Трошина блекла улыбка, лицо пятнала большая внутренняя напряженность. Но заговорил спокойно, только лишь чуть-чуть сбиваясь в дыхании:
— Согласен. Я согласен, Александр Тимофеич. За то, что три года правил и не вывел на дорогу колхоз, можно и, пожалуй, надо выгнать из партии. Это вообще. Но меня ты знаешь не день и не два, а без малого тридцать лет. Так вот, после этого и скажи, только прямо скажи: верно, по совести, поступишь, если, как выразился, выметешь без партийного билета? Перестань качаться — нервы мои этого не выдерживают.
Капустин опять остановился против Трошина, уперся в стол широкими кулаками:
— Прямо, говоришь, сказать? Изволь. Уйдешь с председательства — уйдешь из партии. Вот тебе и моя правда.
— Уйду, но коммунистом останусь.
— Гляди, Максим Сергеич. — У Капустина дрогнули тяжелые складки на подбородке. — Гляди. В двенадцать бюро. Разберем твое заявление. Загремишь.
— Спасибо.
Трошин встал и сразу направился к выходу. И по тому, как он поднялся на ноги, неторопливо, опершись руками о колени, и по тому, как шел по кабинету, в упрямом развороте неся свои широкие плечи, секретарь Капустин понял, что Трошин не отступит от слова, и окликнул его:
— Максим. Подожди. — Он подошел к нему, взял под руку и близко прижался к ней. — Сядем, Максим.
Они опустились на диван, и Капустин устало потер глаза свои широкой ладонью, будто снял с них паутину.
— Что же это получается, а, дорогой Максим?
Трошин, взволнованный неожиданным оборотом разговора, безотчетно гладил положенную на колено кисть левой руки и молчал. Молчал и Капустин, не сводя тихо мигающих умных глаз со своего друга.
— Что же все-таки происходит, Максим?
— Карусель крутится, Александр. И я на этой карусели до самой тошноты накатался. Спрыгнуть хочу, а ты не пускаешь. Вот и все. Я ведь, Александр, двужильный. Трехжильный, черт побери. Били меня кулаки, японцы, немцы-стервятники — а я жив. Все перенес. Теперь, видно, ты еще свои кулаки попробуешь на мне. Это самое страшное. Но быть тому. Как хочешь суди, а я иного пути не вижу. Около трех лет я просидел за председательским столом в «Яровом колосе»… Помню все. Как ты уговаривал меня. Как повез туда. Как рекомендовал. Как избрали меня. Все помню. Мне, бригадиру, честь-то была оказана какая. Что ты! И я вцепился в работу — кровь текла из-под ногтей. Сначала себя рвал, чтобы люди верили мне, а потом и их не жалел. И они шли за мной, ступня в ступню. С полуслова понимали мы друг друга. По логике вещей год от года должно бы быть лучше, а у нас, в «Яровом», пошло назад пятки. Я к человеку, а он — от меня. Я ему одно — он мне другое. Я русский, и он русский, а разговор промеж нас узкий. Теперь вот рассуди. Вся моя жизнь проходила на твоих глазах… Да что там говорить, я думал твоими мыслями. Работал. Потел. Последнее здоровьишко извел. А колхоз, родной мой, не на боку, как ты говоришь, а пластом лежит. Годный я после этого председатель? Сам честно, по-партийному, заявляю: не годен.
— Об этом, Максим, нам люди скажут.
— Сказали уже. Тут один молодой человек всех нас, дядловских активистов, назвал смирными овцами, а их, как известно, стригут начисто.
— Ты, Максим, по-моему, заговариваешься.
— Не беспокойся, лишнего не скажу. А парень тот не в бровь, а в глаз стебанул меня. Что правда, то правда. С войны, видимо, мы, Александр, принесли солдатскую мозоль: не разговаривая, выполнять все, что сказано сверху. Слушаемся мы вас, районное начальство, как старшину солдаты по первому году службы. А другой раз надо бы и ослушаться для пользы общего дела. У меня, например, никогда духу не хватало перечить начальству, хотя я частенько копил на это смелость. Пока копил ее, колхоз-то и остригли начисто. Осенью нашумел ты на меня, пристращал тем же вот, чем сегодня стращаешь, и хлеб увезли весь до зернышка. Теперь люди за свой труд хлеба просят, а где я его возьму?
Из-под усов Трошина проглянула жалкая ухмылка, и тут же не стало ее; он продолжал:
— Ослаб я своими нервишками, Александр, вконец. Тут как-то днями, веришь ли, сам чуть слезу не проронил. Есть у нас в колхозе работящая девчонка, Клава Дорогина. Сама ростом вот такесинька, совсем невеличка, а на работу — любого мужика заткнет за пояс. Поистине, мал золотник, да дорог. Осенью во «Всходах коммуны» портрет ее был напечатан как передовика уборки. Приходит эта самая Клава, разворачивает передо мной газету со своим портретом и спрашивает: — Максим-де Сергеевич, что верно, что я ударница? — Верно, говорю, Клава. — Значит, работала я хорошо? — Дай бог, отвечаю, чтобы все так работали. — А мать, говорит, мне не верит. — Как же она может не верить, спрашиваю? — А вот так и не верит. Обманом-де ты, Клавка, не по правде попала в газету. — И заплакала моя девушка. — Да ты, говорю, дурочка, не реви. Расскажи, что у вас там. Оказывается, в чем дело? Году, не помню, не то тридцать седьмом, не то тридцать восьмом Клавину мать, Матрену Пименовну, тоже напечатали в газете, и колхоз ей по такому случаю выдал премию — пять или шесть пудов пшеницы. А мы Клаве даже трудодни не оплатили.
— Я, кажется, разрешил ссуду вашему колхозу.