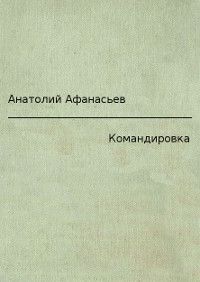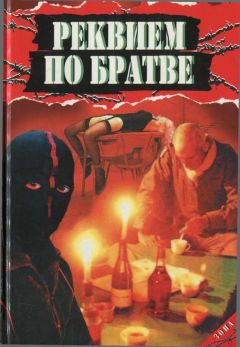Анатолий Афанасьев - Командировка
— Виктор.
— Извини, Виктор, что я на «ты». Привычка.
— Ничего.
— Про прибор тебе так скажу — не знаю. Ничего не знаю. Где я работаю, там чисто, а у прочих — не знаю. Вот у тебя взгляд–то острый, приметливый — чего есть, сам найдешь… Но все же замечу в форме совета: на людей зря не кидайся. Люди у нас в большинстве хорошие, как и всюду. Хорошего человека зря обидишь — себя обидишь.
— Я понял, — сказал я. — Спасибо, Викентий Гаврилович.
— И сохраннее будешь, — добавил он, усмехнувшись.
Я и забыл, что похож на Пьеро. Может, этим я и смягчил многодумного Давыдюка. В прохладном полумраке коридора его лицо напоминало оплывшую маску языческого божка. Я понимал, почему он не нравится очаровательной девушке Шуре. Он был из другого мира, того мира, который меня коснулся в детстве, а Шурочке был вообще непонятен и чужд.
— Что ж, десять минут прошли, Викентий Гаврилович. Спасибо.
— Ладно, Витя, чего там. — Он яростно чесанул грудь под рубахой. — Ты мне глянулся. Рыщешь, кидаешься, а глянулся. Предполагаю, тебе еще не раз подсветят по сусалам. Ха–ха–ха!
С этим добрым прогнозом он поднялся со стула и потопал к себе. А я остался и курил.
Потом открыл блокнот и торопясь исписал целую страницу. По привычке я делал записи в своем блокноте, хотя мне давно было ясно, что можно пройти все пункты создания узла, от нуля и до стенда, и ни до чего не докопаться. Ошибался не принцип, ошибались исполнители, если можно так выразиться. И способ обнаружения должен был быть особенный, скорее психологический, чем технологический.
Общая идея и модель были безупречны, но комбинаций технического свойства, на которые опиралась идея, было великое множество, и в их состыковке тоже могла таиться ошибка.
Поначалу задача моя была проста, и понимал я ее просто: мне следовало так или иначе убедить товарищей из института заново заняться более тщательной отработкой узла. Таково было задание, данное мне Перегудовым. Но постепенно, вживаясь в эту атмосферу нервозности и недоговоренности, этого неестественного возбуждения, я ощутил в себе желание помочь не только Перегудову, но и всем здешним товарищам: и Капитанову, и Никоруку, и Шутову. Мне бы изменить тактику, мне бы не раздражать их своим горячечным мельтешением. Это были прекрасные люди, они бы поняли меня. О господи, кто дал мне право судить их и подозревать! Я испытывал чувство странного, глубокого отчуждения от самого себя, того, каким я был всего несколько дней назад. Говорят, шлея попала под хвост. Да, мне попала шлея под хвост, я не умел остановиться, расценив с самого начала свою миссию, как визит лазутчика в стан врагов, я и действовал соответственно. Более того, с некоторым страхом я сознавал, что вряд ли теперь остановлюсь, пока не расшибу лоб о стену рядом с открытой дверью…
Приблизилась Шура:
— Виктор Андреевич, нате, поглядите в зеркало.
Неприятное я увидел зрелище. Пудра растеклась, обнажив боевые царапины, слипшись ошметками на скулах. Ряженый!
— Что же мне делать, Шура? Я ведь людей могу напугать.
— Ой, давайте я вам помогу.
— Прямо здесь?
Фея в джинсах, любезный мой приятель, увела меня за собой в укромное местечко, возле туалета, и тут, смеясь и дурачась, занялась моей внешностью, как сестра милосердия. Своим платочком протерла мне кожу, а потом нанесла новый слой крема и пудры.
Но не французской, а отечественной, со знаком качества; лицо защипало и стянуло к вискам, точно тонкой резиной его заклеили. Ухаживая за мной, высунув от усердия кончик языка, Шура несколько раз коснулась меня грудью, от ее тела сквозил душный молочный запах.
Опять мы с Шурой в коридоре. По ней видно: она что–то обдумала для себя, решила и готова сделать роковой шаг.
— Виктор Андреевич, если хотите… после работы.
— Что — после работы?
Смятение в гордом сердечке. Она не желает верить, что все это время я вторым планом не прикидывал, как к ней подступиться.
— Ну, вы же сами говорили вчера… — смущена неподдельно. Не привыкла навязываться. А ведь какая хитрющая девчонка. Прямо разведчик. Не собирается выпускать меня из поля зрения даже вечером.
Тайно встала на защиту неизвестного мне человека. Хотя почему же неизвестного? Скорее всего, это сам Капитанов и есть, гвардеец без мундира. Либо мой друг Петя Шутов.
— Это слишком серьезно для меня, Шура, — сказал я, нахмурясь. — В моем положении нельзя быть легкомысленным.
Краска мгновенно заливает ее щеки, и без того розовенькие.
— Что вы подумали, Виктор Андреевич? Я могла бы показать вам красивые места. Только и всего. В этом ничего нет плохого.
— Конечно, — заметил я наставительно. — Для тебя — ничего. А со стороны? Что могут люди подумать? Пожилой командированный и прелестная девушка гуляют вечерней порой под пальмами. Любуются природой. Это же вызов общественному мнению. Пойди потом доказывай, что ничего не было. А вдруг было?
— Хорошо! — зло бросила Шура, отворачиваясь от моего мерзкого лица.
Но я не успокаиваюсь:
— Потом — это опасно. На меня может быть покушение. Заодно и тебя не пожалеют. Нет, Шура, риск слишком велик. Надо все толком обмозговать.
А тебе очень хочется? Прикусила губку, задышала грудью, вытянулась в тугую струну.
— Куда теперь?
— К Прохорову и обедать. Надоело мне это бессмысленное хождение. Ну уж, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Я так считаю, Шура.
Она шла впереди как бы уже по заведенному нами ритуалу, а я плелся сзади, смотрел, как под тонкой тканью струятся ее плечи, лопатки, подпрыгивает каштановый пучок волос, и продолжал бормотать, как маньяк:
— Еще бы я не хотел вечером, да ведь опасно. Надо считаться с обстоятельствами. Мало ли чего мне хочется. Один мой приятель захотел приобрести автомобиль, а денег у него не было. Где он теперь? Я имею в виду, не автомобиль, а приятеля. За решеткой. Увы!
У лифта Шура резко остановилась, так, что я невольно натолкнулся на нее, прижался на миг к горячей спине.
— Может быть, хватит?!
— Шурочка, да ты что? Это я так болтаю, с расстройства. Ты же единственный человек, который со мной здесь приветлив. Давай будем друзьями и остановимся на этой черте.
— Если бы не наши официальные отношения, я бы влепила вам пощечину.
И влепила бы. Я видел. Ах какая все же тоска! Нельзя же без конца фиглярствовать. Какого смысла ищу я в самоунижении? Какая радость в самопредательстве?
Вдруг лицо ее чудесно переменилось, сверкнула перламутровая полоска между алых бутонов:
— Нет, не могу на вас сердиться. Хоть поклясться! Ой, не могу! Какой–то вы… ну, как мальчишка. Зачем вы меня дразните? У вас виски седые.
С удивлением вглядывался я в гримасу пушистого смеха, запорошившего ее кожу, и сам невольно заулыбался в ответ. Что–то такое я почувствовал к ней, будто она моя добрая младшая сестренка и мы выросли вместе. И я качал ее на руках, маленькую. А после жизнь нас разлучила. Она произносила «ой!» так точно, как Наталья.
— Я тебе очень благодарен, — сказал я, — за то, что ты сейчас смеешься и называешь меня мальчишкой. Честное слово.
Она отвернулась и нажала кнопку лифта. Верхний этаж, коридор, поворот, снова коридор — сбывшиеся грезы архитектора–троечника. Пришли. Комнатка — дымный чуланчик, три тумбовых стола, за одним — Прохоров Дмитрий Васильевич, в моем списке номер один.
Прохоров интересен мне, в частности, тем, что когда–то работал в нашем институте. В чем именно не сошлись они с Перегудовым — не знаю. Владлен Осипович сказал про него с пренебрежением: неврастеник и неудачник. Потом добавил как бы через силу: но голова светлая, ничего не могу сказать, светлая голова. Ты с ним, Витя, особенно поговори…
Прохоров с первого взгляда оставлял тягостное впечатление чего–то струящегося, несформировавшегося. Пожилой младенец с восковыми щечками предупредительно поднялся мне навстречу, заалел в улыбке деснами, зашуршал телом в теплом спортивном (не по погоде) пиджаке. Он меня ждал и не скрывал этого.
— От Перегудова? Ну, как он там, наш старик? Дай бог ему здоровья, такой человек. А? Да вы присаживайтесь, не тушуйтесь. Часа два никто сюда не заглянет… Как отлично, что вы приехали. Приборчик шалит? Ах, беда! Шурочка, садись, голубочек лазоревый. Вот, Виктор Андреевич, какая смена произросла незаметно. Не страшно дела передавать. Уж они не подкачают, да, Шурочка? У них осечек не будет с приборчиками.
Девушка смотрела на меня вопросительно.
— Садись, Шура.
Я попытался перехватить взгляд Прохорова, пляшущий по мне, по стенам, по Шурочке, как телевизионная помеха. Куда там. Не взгляд, а дьявол.
Честно говоря, после отзыва Перегудова я ожидал большего. А это что же, неврастеник, хроническая уязвленность, взвинченный, обескураженный и все–таки чем–то симпатичный человек. Конечно, в хаосе его сознания все может уместиться: и доблесть, и преступление; конечно, такие, как Прохоров, талантливые и разболтанные, с психованной волей, почувствовав себя в ловушке, до последнего момента, до рокового выстрела, показывают зубы охотнику. Может, и меня он принимает за охотника. Напрасно. Я не охотник и не судья ему, а он мне не враг. За тыщу верст приехал я тихо–мирно побеседовать о приборе.