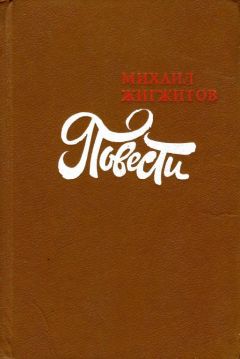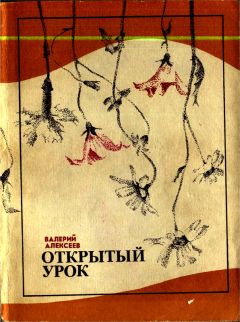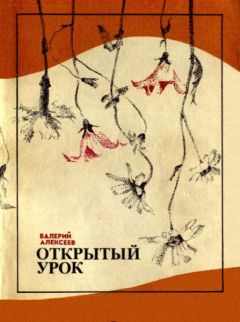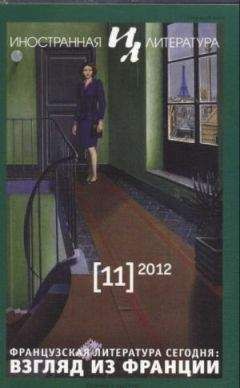Владислав Леонов - Деревянное солнышко
Праздник широко разгулялся по совхозу. Светились окна, заливались баяны, звенели гитары, заслуженно отдыхали люди, чтобы с зарей снова выйти в поле.
Женька забрел в Климовку — здесь было потише. Молчали и не шумели телевизионными голосами раскрытые окна домов. «Спят старушки», — успокоился он, усаживаясь под окошком Веры Петровны. Над сплетенными кронами тополей размахнулось светлое, в частую золотую крапинку летнее небо. Поглядывая на него, Женька стал баюкать и лелеять свою неожиданную радость. «Как это парторг сказал? — медленно перебирал он в памяти. — «За хорошую работу объявить благодарность...» Женька закрыл глаза: да, приятно. И не то хорошо, что благодарность, а то замечательно, что все слыхали, особенно тетка проклятая!
— «Ромашки сорваны, завяли лютики», — послышалась песня. Это из клуба возвращались три сестрицы из звена Бабкина.
Женька вскочил — даже в Климовке не осталось тишины! Куда податься?
Женька посмотрел на берег: там мотался хвостатый рыжий костер. Возле него мелькали тени. И Женьке вдруг так захотелось к людям, что он тут же побежал к ним — прямиком, не разбирая дороги. Колоски подорожника свистели по его ногам, следом дымились лопухи.
Он разыскал Бабкина и Павлуню. Братья сидели сычами и смотрели, как у костра танцует с ребятами Чижик.
— Толстая, а прыткая! — сказал Женька, бросаясь рядом с Бабкиным на траву.
Никто ему не ответил. Братья любовались девушкой, не осмеливаясь появиться перед ней в резком, прыгающем свете костра.
Зато не сиделось Женьке. Он подскочил к Татьяне, схватил ее за руку и молча повел куда-то.
— Куда ты? — взмолилась девушка, но Женька напористо подпихивал ее к тому месту, где сидели Бабкин с Павлуней.
Оба вскочили перед Татьяной. Устало отдуваясь, Женька сказал ворчливо:
— Гулять за вас я буду, да? Провожаться, что ли, мне идти?
Девушка засмеялась. Бабкин посмотрел на Павлуню и не увидел, а почувствовал его просящий взгляд.
— Холодно, — поежилась Чижик. — Домой пора.
Она пошла берегом, белея в темноте кофточкой. Бабкин провожал ее отчаянным взором.
— Ой, мама! — вздохнул Женька.
Бабкин обернулся к брату:
— Пашка! Ты тут посиди. Я пойду.
Павлуня не ответил. Бабкин махнул рукой и пустился догонять девушку. С минуту было видно, как они рядом шли берегом реки, потом только едва белела во тьме ее кофточка.
— А я? — тихо выговорил Павлуня, глядя на это пятнышко. — Я как же?
— Найдем и тебе! — беспечно отозвался Женька. — Мало ли толстых на свете!
Он завалился носом к кузнечикам, стал слушать их. Но Павлуня мешал ему: все сопел и хлюпал над головой.
— Помереть спокойно не дадут! — проворчал Женька.
Поднялся и пошагал домой. Он услыхал за спиной торопливые шаги. Оглянулся: его нагонял Павлуня.
— Ну чего тебе?
— С тобой, — забормотал братец. — Одному плохо...
— Валяй! — милостиво разрешил Женька и, жалея Павлуню, подумал: «А верно! Чем одному — лучше в омут головой!»
БУДНИ
Наутро у сторожки собрались все: загорелые бабушки в клеенчатых фартуках и кедах, хмурый, бледнолицый Павлуня в майке и соломенной шляпе, жизнерадостный Женька в одних плавках.
Бабкин опаздывал — такого с ним еще не случалось. Все тревожно поглядывали на дорогу.
Но вот звеньевой появился. Он брел не от Лешачихиного дома, а откуда-то со стороны речки, лениво помахивая прутиком. На него коршуном набросился Павлуня:
— Ты всю ночь где-то, а за тебя переживай! Понимать надо о людях!
— Ладно тебе уж, — улыбнулся Бабкин. — Ящики привез?
— Я тебе что — лошадь? — огрызнулся Павлуня. — Варвара я тебе? Я один разве все могу? И ящики надо, и трактор вон заправить... — Павлуня и сердился тоже длинно, нудно, не как все люди.
Бабкин послушал-послушал, потом пошел в сторожку и завалился в сено. Бабушки переглянулись. Женька шмыгнул следом за звеньевым, затормошил его:
— Где были-то? Рассказывай! О чем говорили?
— Да ни о чем. — Бабкин засмеялся в сено. Он был весь мягкий, добрый, податливый. — Гуляли мы...
— Чудак ты! — недовольно сказал Женька. Бабкин слушал, как за фанерной стенкой Павлуня визгливо ругает мальчишек, и удивлялся, что голос братца так здорово напоминает теткину сварливую глотку.
— Шумит! — кивнул Женька.
— Шумит — это лучше, — ответил Бабкин. — Ты уйди, пожалуйста, дай мне отдохнуть минутку.
— Сильна любовь-то, — покачал головой Женька. — Такого парня свалила!
Он постоял, подивился и вышел на солнце. Перед ним тянулись грядки, длинные да скучные. Бабушки ловко дергали морковные хвостики, вязали их в пучки, укладывали в ящики. Это было только самое-самое начало, и до сплошной уборки еще не дошло.
— Когда же она, проклятая, совсем-то вырастет? — встревоженно спросил Женька.
Климовские бабушки с гордостью отвечали:
— И-и, когда! Знаешь, как ее, родимую, растить-то!
— С толком надо! — врезался в разговор сердитый Павлуня. — С чувством, а не так — лишь бы! Давай вставай!
— А ты мне командир, да? — заволновался Женька. — Я тебя испугался?
Но тут он вспомнил красный зал и себя в этом зале, раскисшего от счастья, и такие слова парторга, каких раньше Женьке не говорил никто.
— Ладно уж, — пробормотал он. — Попробую...
Женька встал на свою нескончаемую грядку, нагнулся и пошел. Уже через час соль разъела ему глаза и лоб, силы поредели, захотелось ругаться. Он часто останавливался, смотрел на ушедших далеко вперед бабушек и вздыхал. То ли дело вчерашняя работа на хлебном поле! Она по душе Женьке, веселая, огневая, через край. А тут не поймешь, где конец и где начало. Там — праздник, здесь — сплошные серые будни. Там — комбайны, тут — бабушки. Когда-то они все передергают!
Женька, зевая, ушел в тень сторожки.
Тоска! Хорошо хоть, Павлуня для разнообразия шумит на все четыре стороны насчет того, что некому позаботиться, некому ящики подвезти, а он не лошадь, чтобы все один да один.
Из сторожки показался Бабкин. Молчком сел на шассик и укатил. Павлуня, журавлем выхаживая по канаве, что-то выдергивал, кого-то ловил.
— Развелись, окаянные, — бормотал он, помахивая перед Женькиным носом пучком какой-то скучной травы. — А это вот — блоха, рядом, на свекле, прыгает. — И совал в лицо Женьке щепоть.
— Отвяжись ты со своей блохой! — отпихнулся мальчишка локтем.
Над ним стоял Павлуня и бубнил что-то насчет культивации и опрыскивания, а Женька мрачно думал о том, сколько еще будет поливов, рыхлений, мучений, пока морковные хилые хвостики нальются силой да сладостью.
— Помогай! — крикнул ему Бабкин. Он привез ящики на шассике и студенток на автобусе.
Ящики скинули, студентки вылезли сами, заохали, разглядывая грядки.
Девчата были рослые, гладкие, как лошадки. И Женька оживился, увидев в скучной Климовке такие красивые, веселые лица. Его голосишко жаворонком взлетел над полем:
— Девочки, милые! Догоняйте бабушек!
— У-у-у! — отвечали девушки. — Где уж нам уж!
— Ты серьезней и без этого! — нахмурился Павлуня и стал объяснять девчатам норму и зарплату.
Так хорошо закончился для Женьки тяжелый день понедельник. Но за ним потянулись длинные, как эти грядки, вторники и среды. И во вторник продергивали морковку на пучок, и в среду тоже продергивали. Девчата из студенческой бригады, попривыкнув, стали уже убегать далеко вперед бабушек, а Женька тащился позади всех, ни к какой работе не приученный, ничего делать не умеющий. Его никто больше не подгонял, и, сидя на ящике, он потерял даже охоту шутить с девчатами. Голос у него пропылился, глаза стали маленькие, злые.
В четверг, когда перед обедом все пошли купаться, тихий Женька внимательно следил за Санычем. Потом спросил:
— Слушай, этому твоему делу долго учиться?
— Это смотря какая у тебя голова, — ответил Саныч.
— Понятно, — пробормотал Женька и побежал к директору.
Ефима Борисовича он разыскал в мастерской. Здесь же стояли Бабкин с Павлуней, Трофим, инженеры — все глядели на диковинную машину с решетчатым барабаном сзади и острыми ножами впереди.
«Комбайн какой-то?» — метнул взгляд Женька, однако ему совсем не до комбайнов — у него своих забот по горло.
— Ефим Борисович! — сказал он таким тоненьким обиженным голоском, что все повернулись к нему. — Не могу я больше! Не тянет меня к земле. Пошлите к воде, на понтон!
Только за мгновение до этого вопля у людей в мастерской были такие хорошие светлые лица, но вдруг сделались они скучные и серые.
— Земля, говоришь, не интересует? — спросил Трофим, и его деревяшка угрожающе застучала по цементному полу.
— Да! Никакого к ней интересу!
— А что ты знаешь про землю-то? — наступал Трофим.
— А чо про нее знать-то? — пятился Женька. — Только вот что: не пошлете на понтон — совсем из совхоза сбегу! Не больно-то хотелось в грязи ковыряться!