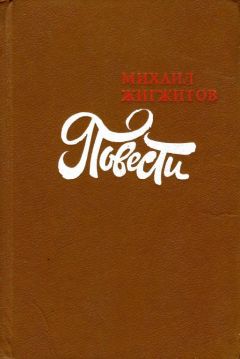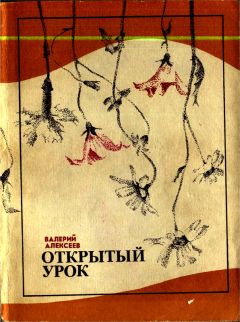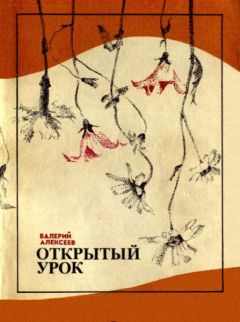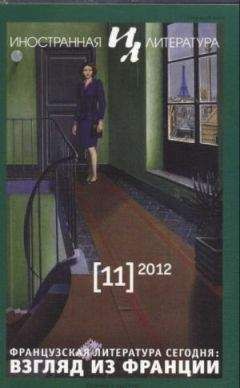Владислав Леонов - Деревянное солнышко
Тетка замахала было руками, но повариха сказала:
— Помогай-ка. Только сперва я тебя одену. Пошли!
Она обрядила тетку в привычную для нее столовскую одежду, и на глазах у всех та превратилась вдруг в красивую, добротную, ладного покроя женщину. Только из-под белого халата торчали ржавые солдатские сапоги.
— Дайте Золушке хрустальные туфельки! — не утерпела Лешачиха.
Нашли, однако, тапочки, тетка сунула в них ноги и уверенно встала к плите.
Тем временем Женька налил воду в бочку, сам накачался до веселого бульканья в животе и погнал сивку по жаре.
...Вечером Лешачиха вышла на дорогу встречать его. На обочине стояла круглая девушка и тоже смотрела в ту сторону, откуда должна приехать смена комбайнеров.
— Не видать? — сощурила Лешачиха зоркие глаза.
Чижик смутилась.
— Я никого не жду, — тихо сказала она.
Они сели за длинный стол. Загорелись фонари на столбах. Тетка явилась со стопкой мисок и начала ловко метать их по выскобленным доскам стола, по полированным сучкам. С веселым стуком легли ложки, на места встали солонки.
— А ловкая ты! — невольно залюбовалась Лешачиха.
— А ты думала! — откликнулась тетка. — Я и косила не хуже тебя! — Тетка скрестила на груди выбеленные водой руки: — Готово! Запускайте народ!
Вдали задымилась дорога.
— Едут! — вскочили девчонки из школьной бригады.
— Едут. — Лешачиха посмотрела на Татьяну и торопливо стала запихивать под платок седые космы.
Подкатила одинокая телега. На пустой бочке, неловко вытянув ногу, сидел Бабкин.
Он сполз с бочки и опустился тут же, возле копыт сивой кобылки.
— Водички бы...
Лешачиха подала ему запотевшую кружку, Бабкин выпил, отвалился на солому. Небо плыло, колыхалось над ним, в ушах рокотало.
Чижик присела рядом.
— Я тебя сегодня ждала, — сказала она, и Бабкин затаил дух. — Я хотела тебе сказать... Ну, я, наверно, и вправду балда... Ты на меня не обижайся, а?
Бабкин крепко зажмурился, и тотчас над ним прошелестело легкое, как вздох:
— Спишь?
— Нет, — ответил Бабкин. Видно, за день в глаза налетела колкая пыль: она щипала, резала, выжимала слезу.
Чижик охнула и зазвенела своими ядовито-пахучими склянками. Бабкин поспешно сел и забеспокоился:
— Ничего мне не надо! Все прошло!
— Да ведь нога у тебя! Ох, какая же я!..
Бабкин заглянул в милые, в такие испуганные глаза и, отворачиваясь, закричал:
— Настасья Петровна! Тетя! Да налейте вы ей скорее борща! Самого жирного!
Счастливый Бабкин сам есть не стал, он лежал и слушал, как гремели миски, как отбивалась Чижик:
— Да куда мне столько! Я и так толстая!
Лешачиха в ответ напевала:
— Ты пухленькая, ты беленькая, вот и посуда тебе не меленькая.
Все засмеялись, улыбнулся и Бабкин. Потом на него, покачиваясь, стало наплывать солнечное поле. Летела из-под мотовила соломенная сверкающая пыль, шуршало зерно, падая в высокий, кузов машины.
По шагам, по дыханию Бабкин понял: подошла Лешачиха и стоит над ним в нерешительности. Не открывая глаз, он весело сказал:
— Женька молодец, он на комбайне. Вместе с Пашкой. Я ему свои очки отдал.
Лешачиха задышала, потом ломко выговорила:
— Миша, давай, пожалуй, пустим к себе студентов? Места у нас много, а народ они хороший...
ПРАЗДНИК
Из дальних мест так не ждала сына Лешачиха, как ждала его в этот вечер. Выходила на дорогу, всматривалась. А в поле мигали, дрожали и двигались большие и малые огни, жили моторы. Слушая этот гул, мать представляла себе, как появится сейчас ее о н. Какой придет Женька, она не знала, но то, что он будет особенным — в этом Настасья Петровна не сомневалась. Она верила, что о н, в своих шортах и «молниях», явится ни на кого не похожий, он скажет ей светлые, красивые слова.
Дорога загудела: ехала смена. Слишком ярко горели фонари, и Лешачиха убежала в тень. Сердце ее не унималось.
Подкатила машина, и сразу с нее стали прыгать парни в одинаковых комбинезонах. Они говорили громко, оглушенные за день моторами. Толкаясь и торопясь, совали ладони под краны, фыркали, потом с грохотом сели к столу: и свои, совхозные, и заводские шефы, но все одинаково незнакомые ей.
В наступившей тишине слышался частый стук ложек. Лешачиха напрасно вертела головой, отыскивая Женьку, — она не видела его среди этих пропыленных и пахнущих машинами ребят.
Один из них поднял голову и засмеялся:
— Ма, это же я!
— О н! — только и сказала Настасья Петровна.
— Садись с нами! — похлопал Женька по лавке.
Сердце ее наполнила горячая кровь, потекла через край. Речистая Лешачиха ответила:
— Ладно уж... Я уж тут уж...
И смотрела, смотрела, отойдя в сторонку, на своего Женьку. Был он хоть и без куртки, и без «молний», в чьем-то стареньком, не по росту комбинезоне, а все равно лучше всех.
Разделавшись с ужином, смена завалилась в сладкую соломенную постель под звездное одеяло. Лешачиха сидела над сыном, отгоняя веткой комаров. Но комаров было много, и сыновей много, поэтому матери пришлось неустанно ходить над ними, обмахивая всех, оберегая их сон.
Сон прокатился короткий и крепкий, как орех. На рассвете прибыла новая смена, такая же оглушенная, чумазая, шумная. Не успела мать оглянуться, как Женька вскочил в машину и уехал. Лешачиха на крыльях полетела на ферму.
Через неделю поле опустело. Остались стоять по жнивью, словно золотые избы, теплые скирды.
В клубе собрались победители. Лица их опалены, брови выгорели, рубахи выглажены. Они дули пиво в буфете, курили на крыльце. И вместе со всеми так же важно тянул пиво Женька. Настасья Петровна в ясных молодых морщинах и новой кофте растерянно бродила по клубу и, опасаясь подойти к н е м у, молча гордилась издали.
Загремели звонки, все повалили в зал. Захлопали стульями, уселись, замолчали, разглядывая сцену, красное сукно и на нем — каравай. Он возвышался на расписном блюде, поджаристый, хрустящий, огромный.
— Вон он, — осевшим голосом сказал в зале Трофим, — вот он, хлебушек наш.
— Наш! — живо ответил ему Женька. — Общий!
— Товарищи! — сказал, взбежав на сцену, Семен Федорович. — Предлагаю избрать в президиум тех товарищей, которые своим трудом куют славу родного совхоза! — Все захлопали, а когда установилась тишина, секретарь продолжил: — Так попросим же сюда, к этому караваю, лучших наших механизаторов!
Зал колыхнулся и затих. Семен Федорович пошуршал бумажкой и зычно стал читать, делая значительную остановку после каждой фамилии:
— «Авданин... Авдеев...»
Смущенно покашливая в кулак, ссутулив богатырские плечи, пошли на сцену совхозные парни.
— «Бабкин»! — громко произнес парторг.
Кто-то засмеялся:
— Это который?
— Это наш! — тут же отрезал Трофим. — Климовский! Иди, звеньевой!
— Двигай, Миша! Вали! — спешил показаться народу Женька. — А то сам пойду! — И он захлопал что было сил.
Люди подхватили. Бабкина выпихнули в проход, и он, сердитый, пошел на сцену, глядя под ноги.
Женька вертелся, толкался, ему было тесно и жарко в просторном зале, где справа сидел Павлуня, слева — Боря Байбара, а впереди и сзади — все свои, свои.
Когда стали давать премии, Женька отхлопал все ладони, чтобы только не сидеть без движения. И Павлуня отхватил грамоту. Женька закричал:
— Бери ее, Пашка! На стеночку ее, в рамочку!
Закручивая грамоту, Павлуня деревянно и кособоко побрел на место, со света в полутьму, в веселые хлопки. Багровые огни плясали по его щекам.
— А другим премии, — шепотом просвистела тетка.
Павлуня на ровном месте заплелся ногами, погремел в проход, ломая грамоту. Женька захохотал.
— Эй, листок подбери! — крикнул он не со зла, не по глупости, а просто, чтобы все его услыхали.
И в тот же миг тетка ядовито отбрила:
— А у тебя и такой нету, тюремщик!
Вокруг зашумели. Женька вскочил, побежал к выходу.
— Куда, куда! — встал на сцене Ефим Борисович. — Мы еще не все сказали, сядь! Да подержите его кто-нибудь!
Женьку схватили, притянули к сиденью — из железных лап трактористов не вырваться. Секретарь парткома прочитал:
— «Партком, дирекция, рабочий комитет, отмечая хорошую работу товарищей, объявляют благодарность...»
И тут Женька, не ожидавший уже от жизни ничего путного, услыхал свою фамилию! Он начал медленно подниматься, открывать рот, но его опять усадили. Тогда, развалясь, он стал расслабленно щуриться на красное сукно, на каравай. В голове пошли малиновые звоны. Воровато поведя глазами, Женька увидел расплывающееся лицо матери и совсем размяк.
В перерыве Женька томно слонялся по клубу, испытывая непонятное желание: спрятаться от людей и остаться наедине со своими разлохмаченными мыслями. А народ путался под ногами, шумел, плясал под оркестр, щелкал бильярдными шарами.
Женька толкнулся в дверь.
Праздник широко разгулялся по совхозу. Светились окна, заливались баяны, звенели гитары, заслуженно отдыхали люди, чтобы с зарей снова выйти в поле.