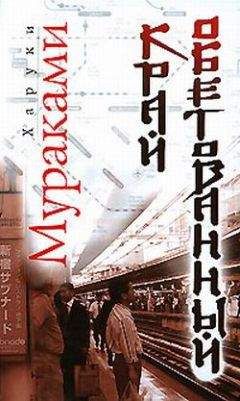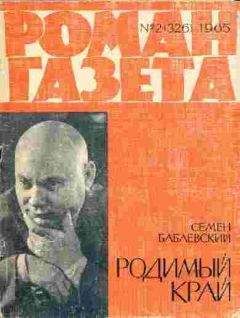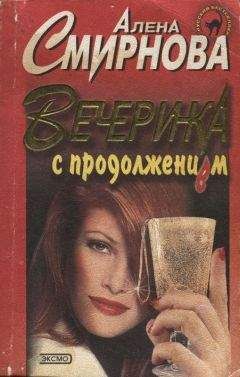Вера Солнцева - Заря над Уссури
Больше Палагу власти не трогали, и забегала она по селу — выполняла свое житейское дело, принимала младенцев-новорожденных. По роду ее работы вхожа была она в любую темнореченскую семью и знала, как она говорила, «подноготную» и мужиков и баб.
На дыбы взвивалась неукротимой степной кобылицей, стойко, грудью защищала Палага-порох, Палага-горячка свою подопечную бедолагу. Насквозь прожигали ее строгие, пылающие глаза нашкодившего, оплошавшего мужика; он начинал краснеть, стесняться своих бесстыдных пудовых кулаков, месивших, как тесто, тело обессилевшей жены; он божился и клялся пальцем ее больше не тронуть.
— Смотри! — предупреждала Палага. — Смотри! Держи слово!
И мужик держал: только бы не пришлось опять воротить в сторону синюшное, перепойное лицо, не бубнить опять с тяжкого похмелья: «Пальцем не трону!»
Аксенова полюбила Алену и взяла над ней особую опеку. Как капля точит камень, так и Палага постепенно обтачивала молодую крестьянку, выпрямляла ее, учила видеть корни социального зла, те самые корни, различать которые научили ее, Палагу, хабаровские друзья — Лебедева и Яницына.
Палага опекала Смирнову осторожно и бережно, ибо видела, как робка Алена, как забита сиротством, как пугает ее порой дерзкое восстание Аксеновой против кривды и зла, ее неустанное горение, жажда мести и борьбы.
Крепко сдружил Горяч-камень Алену Смирнову и с молодой женщиной Марьей Порфирьевной. Ее по старой памяти темнореченцы величали Машкой, Маней, Марусей, хотя она была уже женой и многодетной матерью. Покачивая на руках ребенка, Марья поверяла ей сокровенные бабьи секреты, потом просила, укладывая младенца на Горяч-камень:
— Посиди с ним минутку, Аленушка. Искупаюсь… — Молодая, пригожая, веселая, кричала, отплыв почти на середину реки: — Не ревет? Сейчас, сейчас!
И, с силой хлопая по воде, саженками преодолевала сопротивление Уссури, выскакивала из воды, набрасывала на мокрое тело белье и платье.
— Не серчай, Аленушка! В кои годы сподобилась искупаться… Все недосуг, заездила меня моя орава! — И хохотала, озорная, сама еще девчонка.
Она ворвалась в дом Алены зимним студеным утром и, обезумевшая от нежданной потери, полумертвая свалилась у ног подруги.
— Алена! Там, в снегу, у плетня… За-хар… Захарушка… Замерз. Окоченел!
Овдовела-осиротела розовощекая, редкостно сердобольная Марья Порфирьевна в двадцать два молодых года; остались на ее руках парнишки — семь сынков! И начала Марья свою многотрудную жизнь, каждый шаг которой был теперь известен Алене. Ах, Марьюшка, Марья, какая беда на тебя свалилась! Семь ртов оставил непутевый муж!
Две подруги-певуньи, Марья да — ныне покойница — Аграфена Новоселова, Валерушкина мать, в один час венчались в церкви. Ах, любила похохотать Марьюшка, попеть-поплясать, парня с ума свести! Аграфена — нет, та была неулыба царевна, как и ее доченька Лерка.
Муж попался Марье такой же легкий, бездумный, какой была и сама она на пороге юности.
Веселый запивоха и плясун Захар, Марьюшкин муж, ходил гоголем, когда через год после женитьбы Марья Порфирьевна принесла ему двойню. Рассматривая орущих сыновей, Захар приосанился и сиплым, как у молодого петушка, голосом сказал:
— Мы с тобой проживем, Марьюшка, годков двадцать пять и народим ребятишек штук сорок!
С радости он напился в лоск и строго-настрого приказал жене:
— Роди мне, Марьюшка, еще двояшек сынков. По моему заказу.
Захар речистый говорун, с языком без костей онемело глянул на повивальную бабку Палагу, когда она ровне через год поднесла ему, как на блюдечке, двух мальчишек, туго спеленатых, красных, сморщенных, как старикашки.
Захар протер глаза, попятился. «Может, спьяну мерещится? Нет! Двойня! Ай да Марья Порфирьевна! Удружила! По заказу». Не заказывал больше — ни-ни! Но и без заказа жена каждый год приносила ребенка. Забубенная головушка Захар стал побаиваться: «Так, Марьюшка, шагать будем — к серебряной свадьбе и впрямь двадцать сынков народим». Но, видно, вперед не заглядывай, далеко не загадывай!
Бражничал Захар в тот день с приятелями в казенке. Чуть смеркалось, когда он, напевая и пританцовывая, отправился домой.
Разыгралась вьюга-пурга. Со свистом и воем вихрились по дороге снежные смерчи. Свинцовое небо почернело, выл и рвал ветер, бросая, в лицо Захару сухой, колющий снег.
Захар забыл о дробном переплясе, бросил петь про забубенную головушку, протрезвел, стал искать запропастившуюся тропинку к дому. Черная, бесноватая мгла, не видно ни зги! Неистовый, неукротимый ветер словно вырвался из преисподней. По щучьему велению расходившейся метелицы вырастали перед протрезвевшим, перепуганным Захаром огромные снежные завалы. Он кричал в разверзшуюся перед ним, бушующую бездну, но вопль ужаса и отчаяния пропадал бесследно в многоголосом свисте и завывании бури.
Утром окоченевшего, полузасыпанного снегом Захара нашли в десяти шагах от родного очага.
В бозе почил Захар, оставив после пяти лет доброго супружества молодую жену и семь сыновей мал мала меньше. Живи не тужи, а задумывайся, Марьюшка! И сразу стала Марьюшка не Марьюшкой, а Марьей Порфирьевной. Уже в плечи въелась вдовья лямка, а до просвета еще далеко! Справное при Захаре, хозяйство постепенно сошло на нет. Скот пришлось продать, кормить ребят — «прорву ненасытную».
А потом пришла и постылая поденка — по людям ходить стала Порфирьевна, быстро изведала батрацкую черную тоску по справедливости и правде, бедняцкую огненную ненависть к захребетникам и мироедам. Устала, ох как устала Марья Порфирьевна тянуть одинокое вдовье ярмо! Не перестарок по годам, а гнет вниз распостылая житуха. Уже подрастали у Марьи Порфирьевны дети, еще несколько годков — и оперятся, встанут на ноги, да тянуть их одной сил уже не хватало. А кто из вдовых мужиков на нее позарится с такой-то оравой?
С Валеркой Новоселовой свел Алену странный случай. Однажды она заметила, как из дома Новоселовых вышел дядя Петя. Он катился колобком, быстро семеня ногами, — уходил-убегал от Лерки.
Заливаясь слезами, она что-то совала ему в руку, а он отмахивался и ускорял шаг.
Лерка села на скамейку, врытую около их двора, и, бросив что-то на землю, с омерзением растоптала ногой, как таракана или клопа.
Алена подошла к ней, хотела заговорить, но девочка, метнув на нее тревожный взгляд, сорвалась со скамьи и убежала в дом. Алена подняла с земли то, что так зло топтала девочка, — это был растерзанный сухой медовый пряник. Алена попросила Марью Порфирьевну привести к ней девочку.
— Валерушку? Приведу. Она моя крестница, покойной подружки Аграфены дочка. Мачеха у нее только… без царя в голове. Одно время совсем было девчонку зашпыняла, а ноне будто мирно у них. И меня привечать Настя стала, а то на порог не пускала, ревнющая баба! Да и не прощала, что мы с Грашей-покойницей дружили…
Марья Порфирьевна привела Лерку к Алене под тем предлогом, что они помогут ей отмыть-отскоблить полы в новом доме. Но пол был уже отмыт до желтизны, и Марья Порфирьевна побежала по своим делам. Алене удалось уговорить Лерку попить с ней чайку.
Девочка была так немногословна, что Алена поняла — не надо ей лезть в душу: «Придется приручать потиху». Чуяла только, как солона мурцовка, которую жизнь уже дала похлебать Лерке.
Алена столько натерпелась в горьком своем сиротстве, что сразу нашла нужное слово, чтобы приголубить одинокую и одичавшую девочку. Если Василь и Силантий уходили на охоту или рыбалку, она шла к Насте и просила ее отпустить на ночевку Лерку.
— Дом новый, тайга, не сплю ночью, боюсь, — лукавила Алена, — а живой человек рядом — и страха нет…
Настя милостиво отпускала девочку, и она, счастливая, оживленная, держа за руку тетю Алену, охотно покидала отчий дом.
Скоро уже знала Алена всю ее подноготную.
Счастливые дни. Любовь и нежность матери и отца. В семье был пусть небольшой, но какой-то скромный достаток. Все рухнуло со смертью матери. Отец пал духом, растерялся, хозяйство пошло прахом. Обычная история. Мачеха. Падчерица.
Лерке было покойно у Алены: могла уходить с головой в недавнее прошлое. И всюду — маманя…
Раннее детство оставило в памяти сверкающий летний день. Хорошо Лерке на тятькином литом плече. Вскачь! Вскачь! Хохочет-закатывается Лерка. Тятька плотно охватил дочку и бежит, аж дух замирает. А сбоку синий мамкин глаз, не отстает, следит тревожно.
— Тише, Михайла! — просит мамка. — Раздурился, словно маленький. Уронишь ненароком девчонку-то…
Бу-ух! — с размаха, с плеча, шлеп в душистое, мягкое сено! С радостным визгом летит кувырком Лерка с копны сена к босым тятькиным ногам.
На траве белая чистая тряпица. На ней хлеб, лук, кусок вяленой рыбы — кеты, вареные яйца, кувшин с квасом.