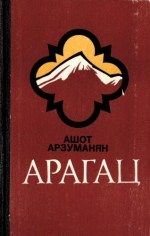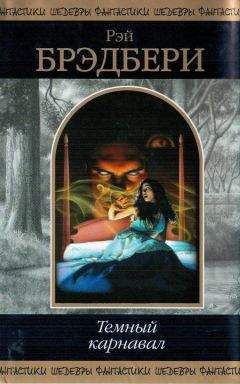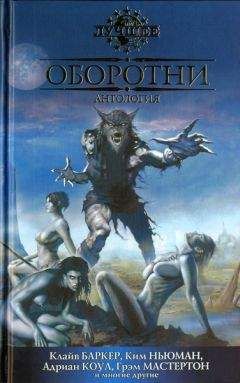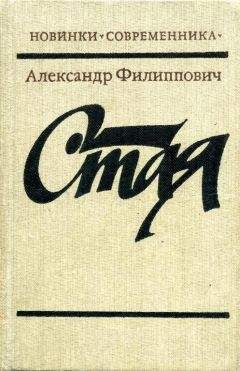Ихил Шрайбман - Далее...
Все пять десятков лет.
Стрелка на весах не колеблется, не подрагивает.
И никакой тяжелой гире ее не перевесить.
4Город Яссы виднеется издалека. Издалека он какой-то приземистый. Дымы и дымки стирают верхушки церквей, высокие башни, фабричные трубы — город выглядит как большая деревня. Ночью вспыхивают, мигая, мириады огоньков, густо, близко друг к другу, сливаются друг с другом, среди дымов и дымков превращаются в сплошной огонь — город зажегся, город горит.
Внутри, в нем, среди его высоких стен и тесных улиц, чувствуешь себя как бы под ним — раздавленным и расплющенным.
Здесь, наверху, среди длинных рядов виноградников, бегущих вверх-вниз по холмам насколько хватает глаз, чувствуешь себя как бы над ним.
И опять же, раздавленным и расплющенным.
Ночью спим мы оба, я и Федя, в старой разрушенной конюшне. А может, это даже и не конюшня. Две почерневшие каменные стены с дырявой замшелой крышей прямо на этих единственных двух стенах. Мы спим в фаэтоне. Спим сидя. Федя с запрокинутой головой, я с запрокинутой головой. Два франта после ночной гулянки трясутся утром с пьяно-запрокинутыми головами в фаэтоне без кучера, без вымуштрованной лошадки с белым пятном на лбу, и лишь две рассохшиеся и растрескавшиеся оглобли зацепились за крышу. Мы жутко пьяны от усталости. Сквозь дыры в крыше и сквозь другие две стены, которых нет, заглядывает свет луны, звездный свет, и всю ночь нам сквозь сон все мерещится, что уже занялся день, уже взошла утренняя звезда, вот послышится хлесткий крик, как хлест кнута: хайде, мэй! Хватит, дескать, дрыхнуть. Подымайтесь к божьей службе! Целый день на палящем солнце, до первых вечерних звезд, обрезать и опрыскивать лозу, столько-то и столько-то кустов. Мы спим на пружинах. Пружины фаэтонного сиденья старые, ржавые, но, наверно, еще достаточно сильные, упрямые, прорвали сопревшую кожу сиденья и выбрались наружу, вытянулись во всю свою длину: «Вот и наше время пришло свободно вздохнуть, на мир поглядеть!» Усаживаясь спать, мы обеими руками вдавливаем пружины обратно в сиденье, быстро плюхаемся на них, чувствуем, как они с нами сражаются, лезут нам прямо в печенки. В один прекрасный день (мы, с божьей помощью, становимся день ото дня все легче) они пнут нас хорошенько и скинут с себя вовсе, от таких господ, как мы, тоже избавятся. Фаэтон, наверно, очень старый, какого-нибудь давнего-давнего барина. Чего он только за свою веселую жизнь не перевидал! Каких только господских историй не смог бы он нам рассказать! Но нам с Федей хватает сейчас своих собственных историй. Мы так наработались, что спим без снов. Мы не храпим даже. Мы и не спим — мы дремлем. Большей частью даже и не дремлем. Мечемся между явью и сном. Федя на своей пружине корчится, вертится на ней туда и сюда, сплевывает, коротко ругается и вдруг, среди ночи, задает мне тяжкий вопрос:
— Скажи, ты ж больше разбираешься. Отчего мой отец повесился?
Я аж вскакиваю.
— Нашел время говорить о таких вещах! Сиди. Спи.
— Взял веревку, залез на чердак и повесился. Утром я туда поднялся покормить голубей. Все мои четыре голубка приткнулись под стрехой, перепуганные, с растрепанными чубами, жались друг к другу. Увидели меня, стали ворковать, что-то рассказывать, жаловаться на что-то. Поворачиваюсь — за трубой висит отец. Он, наверно, на веревке сильно дергался, боролся с веревкой, он, наверно, сразу пожалел.
Федя зарывается в меня. Я провожу рукой по его волосам, склоняю свою голову к его голове. Мы сидим оба на пружинах, прижавшись друг к другу, как Федины голуби в то утро под стрехой. Федя, глухо воркуя, жалуется мне на божий мир:
— Мама мне сказала, что это все равно не мой отец. Я не от него. Я не его. Чей же я? Ничей? А?
Или вдруг, в другой раз, в другую ночь:
— Прошу тебя. Скажи мне правду. Ты был когда-то у моей мамы?
Он втирается в меня еще до того, как спрашивает, и до того, как слышит ответ. И чтобы вызвать меня этим на полную откровенность, и чтобы я простил его за такой вот вопрос, и чтобы ответ мой услышать приглушенно — он его услышал, и он его не услышал.
— Был. И не один раз был, — отвечаю я ему ясно и быстро.
— Ты тоже?
— Глупый мальчишка. Твоя мама выстирывает и выглаживает рубаху — в Рашкове ни одна мама так не сделает. Вот и носят ей ребята свои рубахи в стирку перед праздником. Твоя мама зарабатывает свой кусок хлеба честным трудом. Стирает чужое белье, ходит убирать по домам, белит.
— Знаю. Почему же говорят что-то другое? Почему надо мной все время издеваются? Меня всегда этим шпыняют.
— Ты что, Рашкова не знаешь? Рашков любит выдумывать.
— Почему же про других такое не выдумывают?
— Выдумывают. Про одного выдумывают это, про другого то — еще хуже.
— Чистую правду говоришь?
— Ты что, не веришь мне?
Федя зарывается в меня поглубже, приклеивается ко мне, я тоже зарываюсь в него.
— Я тебе верю. Тебе я верю, — придушенно воркует он мне прямо в сердце, — из-за этого-то я оттуда и убежал. Мой отец хотел, чтобы я стал кузнецом, как он был. А мама ну только парикмахером хотела меня сделать. Я не могу быть парикмахером. Знаешь, я тебя обманул, что не нашел в Яссах работы в парикмахерских. Я даже не искал. Не хочу быть парикмахером. Не могу мылить чужие головы, не могу гладить обжорские рожи.
— Не у всех ведь обжорские рожи.
— Все равно. Не хочу этим зарабатывать. Каждого всякого гладить.
— Парикмахер — специальность, как все специальности. Это же стрижка, бритье.
— Все равно.
Днем Федя обо всем этом не говорит. Ночью, в фаэтоне, прет оно из него. Федя еще совсем юный парнишка, на два или на три года моложе меня. Мать его, прачка Паша, была красивая, ходила всегда причесанная, чисто одетая. Сорочку, которую Паша выстирала, накрахмалила и выгладила, и в самом деле носили показывать всем на удивление. Они жили в домишке с соломенной крышей, в самом низу, у Днестра. Во дворе висело на столбе, как вывеска, колесо от телеги. Под небольшим жестяным навесом стоял горн, рядом — наковальня, заостренная с обеих сторон. Да только колесо на столбе — перекошенное, грязное, горн — погасший, покрытый пылью, наковальня — без звона. Признаки того, что здесь была кузня, а теперь кузни больше нет. Федьку я помню маленьким мальчиком, он бегал всегда по улицам босой и чумазый.
Когда я в первый раз уезжал, он был учеником у Биньомина-цирюльника. То есть больше слугой у Биньомина-цирюльника, чем учеником. С веником в руке он постоянно сметал пучки волос вокруг «кресла», мыл чашку для пены и помазок, стоял и кланялся, когда клиент заходил и выходил; дважды в день, сразу по приходе и поздно ночью перед уходом, мыл пол и в цирюльне, и внутри, в доме Биньомина-цирюльника. И вот, через пару лет, Федька уже — Федя. Все еще маленький, худющий, льняные волосы на голове пока еще скорее белые, чем русые, в голубых глазах — еще детская синева, но, такой вот, он уже убежал из дома в большой город и может уже так вот сказать, твердо и упрямо: не хочу и не могу. За две с половиной недели на помещичьих виноградниках мы с Федей очень сроднились, просто слились в одно целое. О Федином житье, об его отце и матери, об их судьбах и о его дальнейшей судьбе можно было бы написать целую книжку. Но так уж у нас повелось, что мы пишем здесь только самое необходимое, только то, что связано с главным героем нашего рассказа. Мы оставляем Федю в стороне, незаконченным, не вполне отшлифованным, как до сих пор мы оставляли много близких и дальних. Как делает жизнь. Как оставляет она на твоем пути незавершенными и не ясно очерченными десятки, а у кого, может, сотни, ближних и дальних, любимых и не любимых, которые появляются и исчезают, исчезают и появляются снова, если путь у тебя не гладкий, не равнодушный, не легкий и никогда не законченный, тянется и тянется, вверх и вниз, петляет и петляет.
Федя повстречался мне по дороге, у овощных рядов на ясском базаре. Тогда же, в воскресенье, когда я, не попрощавшись, ушел от Мани и Дуцэ.
Мы вышли из города пешком, прошагали в гору несколько километров, до помещичьих виноградников. Прелести виноградников Федя обрисовал красиво. Дают есть. Платят двадцать лей в день. Тебя только записывают и не требуют у тебя никаких бумаг. И стой себе на открытом воздухе и надрывайся с самого восхода до самого заката. Но эта работа — на время. Работа на сезон. То есть даже не на сезон. Говорят, как только виноград поспеет, скажут: иди себе. Собирать виноград у них есть свои люди. Но что будет потом, один бог знает. Лишь бы было сейчас чего пожрать.
В узком бараке с маленькими оконцами без стекол под самой крышей ночевали на нижних и верхних нарах, как в товарных вагонах, шестьдесят — семьдесят мужчин и женщин: молодые украинские парочки откуда-то из-под Хотина. В начале лета они тоже пришли сюда пешком, чтобы за еду и двадцать лей в день обрабатывать помещику больше ста гектаров виноградников. Каждая парочка, наверно, точно так же, как я, и точно так же, как Федя, имела свою собственную историю. Но парочками лежали они на нарах, парочка к парочке. Свет в бараке не горел, сквозь высаженные окошки слышались порой украинские напевы, тонко-протяжные, с одной и той же тоской и с одной и той же грустью. Одетые в одинаковые белохолщовые украинские рубахи, они выглядели все как один, как один человек с одной судьбой и одной историей.