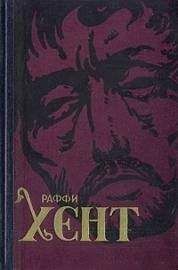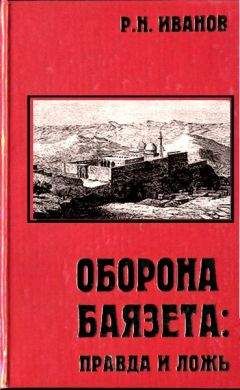Иван Курчавов - Шипка
В госпиталь он все же лег. Там ему промыли рану, перевязали и пожелали спокойно почивать.
Он сладко вздремнул: сказалось и нервное переутомление, и бессонная ночь. Проснулся от боли. Странно: ныла не раненая нога, а здоровая. Он клал ее и так и этак, но боль не прекращалась.
— Николай Ларионович, — обратился он к Скрыдлову, — у тебя ничего не болит?
— Ноги малость побаливают. Терпеть можно, — ответил Скрыдлов.
— А у меня отвратительно ноет здоровая нога. Поразительно!
— А чему же поражаться, Базиль Базилич? У художника все бывает не как у людей, — пошутил Скрыдлов..
— Ты не считаешь меня за человека?
— А разве можно назвать художников и сочинителей обычными людьми? — уже серьезно проговорил Скрыдлов. — Нет братец ты мой, я буду сидеть год, а не сотворю того, что т за один час набросаешь в своем блокноте. Или возьми стих:.. Помню, пробовал в молодости сочинять любовные — чепуха получалась. Я уж не говорю про музыку: придумать такие звуки, чтобы очаровывали каждого! Как хочешь понимай, Базиль Ва~ зилич, но ты и твои товарищи по кисти и перу — не от мира сего!
— Спасибо, — улыбнулся Верещагин, понимая, что его Друг сделал ему своеобразный комплимент.
А боль не проходила. Врач решился на укол морфина. После этого Верещагин опять уснул.
Проснулся — увидел склонившуюся над собой сестру милосердия в строгом черном платье с накрахмаленными белоснеж-ми воротничком и манжетами, в белой косынке с маленьким красным крестом. Сестра улыбалась. Она, видно, уже давно остановилась у его койки, да так и не решилась нарушить его сон. Черноокая, с густыми черными бровями и длинными ресницами, с пухлыми, чуть розовыми губами и приветливой улыбкой, она сразу же понравилась Верещагину.
— Вы не ангел? — спросил он, беря ее за руку. — А ангел не. может прилетать с плохой вестью!
— Я послана сказать вам, что сейчас надо будет сделать перевязку, — проговорила она, склоняя голову.
— Я не сказал бы, что это весть приятная, но ее не назовешь и дурной, — улыбнулся Верещагин. — Если бы я знал, что в Журжевском госпитале ухаживают за ранеными такие красавицы, я специально подставил бы себя под турецкие пули!
— Господи! — взмолилась она. — Неужели все художники так легко раздаривают свои комплименты?
— Не смущайтесь, — сказал Верещагин. — Я не из тех, кто любит говорить неправду. Откуда вы родом? Давно ли вы здесь, в Журжеве?
— Родом я из Петербурга, в Журжеве всего лишь второй день; нас, сто сестер милосердия, прислали из Бухареста: говорят, что будет очень сильная бомбардировка этих мест. Я вызвалась поработать здесь, и мне, как видите, не отказали.
— Вы можете вылечить любого своим ласковым взглядом!
— Спасибо, — поспешно ответила она, давая понять, что пора приступать к делу, пусть и малоприятному, но зато нужному и необходимому.
Орудовала она пинцетом так осторожно, что Верещагин почти не чувствовал боли. А она таскала из раны кусочки шерстяной ткани и шутливо приговаривала, что надо, мол. было беречь одежду, не подставлять под дурацкие пули свои рока. И все это — с улыбкой, тихим и покойным голоском, который не способен вызвать даже малейшего раздражения.
— Как вас звать, милая? — спросил Верещагин, когда сестра закончила перевязку и прикрыла его одеялом.
— Ольга. Ольга Головина.
— Спасибо, Оленька, и заглядывайте к нам почаще, — попросил он.
— Хорошо, — заверила она, — если не начнется бомбардирование и меня не отправят на перевязочный пункт.
Только сестра успела прикрыть дверь палаты, как все время молчавший Скрыдлов обратился с вопросом:
— Василий Васильевич, как ты думаешь, дадут ли мне хоть Владимира?
— Дадут, непременно дадут! — постарался убедить его Верещагин.
— А Георгия, думаешь, не дадут?
— Должно быть, не дадут, брат, помирись с этим, — ответил Верещагин, имевший представление об орденском статуте.
— Знаю! — с горечью вырвалось у Скрыдлова, — только бы не дали Анну!
— Не любопытствуешь ли узнать, как я услышал о награждении себя Георгием? — спросил Верещагин, посматривая на удрученного Скрыдлова и желая вывести его из этого состояния, — Очень желаю! — быстро откликнулся Скрыдлов.
— Я, брат, жил тогда в Париже, — начал Верещагин, — ну и частенько рассказывал про жаркое самаркандское дело и про свое невеселое сидение в осажденном городе. Напомнил, что и оборону держал вместе с другими, и солдат водил на штурм. Между прочим, говорю, дума георгиевских кавалеров мне первому присудила крест, но, как носящий штатское платье, я просил командующего ходатайствовать перед государем перенести эту милость на другого.
— Эх, я никогда бы о таком не просил! — невольно вырвалось у Скрыдлова.
— Ты человек военный, тебе сам бог положил украшать свою грудь боевыми крестами, — сказал Василий Васильевич, — А я не ратник… Да-с… На другой день после того памятного разговора я встречаю своего друга. Вчера инженер такой-то, сообщает он, назвал тебя лжецом: не водил ты, мол, людей на штурм, никто не собирался давать тебе крест, и конечно, ты бы никогда от него не отказался. А как я докажу своим друзьям, что все было так, а не иначе? Расстроился я и обиделся. До того я огорчился, что перестал ходить в этот трактирчик, где обычно встречался с другом. Заглянул я туда через месяц. Что такое: асе друзья радостно бросились мне навстречу, Кто трясет мою руку, кто обнимает. Инженер извиняется и тоже жмет мне руку. Ничего не понимаю! Тут знакомый архитектор шумно развертывает газету и начинает читать громко, с пафосом, на весь трактир: «За блистательное мужество и храб рость государь император жалует Василия Васильевича Вере щагина Георгиевским крестом». Так-то, брат.
— Это хорошо, — мечтательно проговорил Скрыдлов, — эт прекрасно, Василий Васильевич!
Перевязки продолжались и в последующие дни. Мягкие, нежные пальчики Оленьки Головиной всякий раз вытаскивали из раны куски ваты и обрывки шерстяной материи, загнанные в рану турецкой пулей. Но все это мало смущало- Василия Васильевича. «Еще день-два, самое большее три, и я распрощаюсь с этим госпиталем, Николай Ларионович долежит и без меня, у него раны потяжелей и посерьезней», — думал Верещагин, прикидывая, куда он направится по выходе из лазарета и где в конце концов осуществится переправа через Дунай.
Его отрезвил своим откровением лечащий врач, который сказал, что несколько дней — это не срок для лечения и что ему придется задержаться в госпитале недель на шесть — восемь. И это говорил не легкомысленный кавалерийский полковник, а авторитетный и опытный эскулап! Как будто все сговорились чинить ему неприятности и омрачать его настроение!..
А тут еще влетела Оленька Головина — сияющая, возбужденная и счастливая.
— Василий Васильевич! — громким, непривычным для нее голосом воскликнула она, бросаясь к койке Верещагина. — Я вас поздравляю!
— С чем, Оленька? — Верещагин непонимающе уставился на сестру милосердия.
— Наши переправились сегодня через Дунай! У Галаца!
— Спасибо, Оленька, — чуть не застонал Верещагин, — а с чем же вы поздравляете меня?
— С первым успехом, — растерянно проговорила она, спохватившись, что художник убит ее сообщением: он так и не увидел того, ради чего приехал в действующую армию. Она попыталась его успокоить — Василий Васильевич, да вы пе огорчайтесь. — Теперь она была вынуждена немножечко солгать — Я слышала, что вы скоро поправитесь и поедете рисовать свои картины.
— Оленька, милая и добрая девушка, я по вашим честным глазам вижу, что вы говорите неправду, — с жалкой улыбкой произнес Верещагин.
Она что-то хотела сказать еще, но пришел санитар и сообщил, что сестру милосердия ожидает подпоручик, который очень торопится. Ольга извинилась и вышла. Верещагин взглянул на притихшего Скрыдлова и тяжко вздохнул. В эту минуту ему хотелось закричать на всю палату — от горькой обиды и боли, спазмами сжавшей его сильное и здоровое сердце.
— Оленька, здравствуй!
— Андрей! О господи!
Ольга шагнула навстречу Бород и пу и очутилась в его объятиях. Обнимал он бережно, словно боялся, что она может обидеться и отстранить его, так спешившего в это утро в Журжево.
— Твоя записка была для меня приятной неожиданностью, — сказал он, беря ее за руки.
— Мне очень повезло, Андрей. Я ехала из Бухареста и в поезде повстречалась с офицерами твоего полка. Один из них был очень любезен, пообещав доставить тебе мою записку.
— Это мой друг Костров, славный и очень милый человек! Что же мы тут стоим, Оленька? Вон под деревом скамейка, ты можешь немного посидеть?
— Да, но я должна предупредить врача, — ответила она и торопливо зашагала в здание госпиталя. Обернулась, помахала рукой — Я скоро вернусь. Посиди, пожалуйста, без меня. Хорошо?