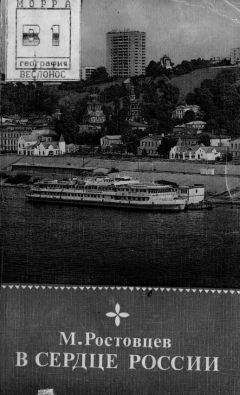Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
Ганалчи пошел по следу…
Десять дней Степа промышлял спокойно. Нельзя сказать, чтобы ему везло. Каждый раз собаки уверенно гнали зверя. И Степан, весь поглощенный погоней, не замечал, как пролетали дни за днями. Соболь не давался ему в руки. То забивался глубоко в снег и уходил в тесные расщелины плиточника-песчаника, и охотник до камня расчищал снег, выкуривал зверька дымом из его убежища. Соболь где-то глубоко под землей чихал, кашлял, зло уркал. Собаки остервенела грызли камень, царапались когтями, выли от злобы. А соболь, чудом найдя выход, выныривал где-то из-под снега и уходил прочь. То он забивался в дупло промерзшего старого дерева. И тогда промысловик топориком валил лесину. Дерево падало, и зверь начинал шипеть, тщетно ища выхода. Степа предусмотрительно забил все возможные выходы, открыв один, который вел соболя только к неминуемой гибели.
Не задешево продал свою жизнь соболишка. А на поверку оказалось — шкурка у него пустяковая, амурского недорогого кряжа. Приемщик в промхозе небрежно покрутит ее в руках, так же небрежно кинет в сторону и впишет в оценочную ведомость против фамилии и номера Степы ничтожную цену. Как говорят охотники: достался соболь себе дороже.
Степан тут же у костра обснял шкурку, упрятал ее в тарсук. И вдруг, прикинув, сколько же он петлял за добычей, сделал для себя открытие — две недели.
Вечерело, но охотник решил вернуться в чум и, кликнув собак, заспешил в обратную. На таборе деда не было. Он не возвращался сюда ни разу, как разошлись они.
Утром Степа сбегал за оленями, они паслись в тайге, кругами окопычивая снег вокруг чума и удаляясь от него по мере того, как выедали ягель.
Неделю внук распутывал следы деда. Далеко увел его соболь, ох как далеко. Распутал, постоял там, где срезал добычу выстрелом Ганалчи. Пошел обратно. И вдруг снова запетлял, заиграл след, уводя Степу еще дальше от табора. И снова постоял внук, теперь уже у нового добычного места. Тут Ганалчи взял еще одного соболя.
Пока Степа угадывал, куда должен был бы пойти старик: до табора далеко, продукты у него кончились, да и ослаб старик, не по плечу больному такая вот охота, — повалил крупный снег. Степа пошел по следу. С каждой минутой тайга набухала белой мутью. Снег уже не валил, а рушился лавиной, накрывая все вокруг. Деревья, кустарники, олени и сам Степа несли на себе громадные сугробы. А снег все валил и валил. Пришлось остановиться, в белой мути стали неразличимы не только засеки, по которым было легко угадывать направление своего пути, но даже деревья.
Охотник натянул полог, положил оленей, привязав их накрепко к лесине, и решил переждать непогодь.
Снег валил еще три дня. У Степы был полог, продукты, олени, молодость, сила. Ничего этого, кроме, пожалуй, костра, если он в силах набрать дров для огня, не было у его деда.
Внук понимал это, каждое утро просыпаясь с надеждой, что ненавистную ему выбелень разорвет, наконец, солнце.
Ни жалость, ни любовь к деду, ни отчаяние его положения не могли побороть в Степе мудрого (от Ганалчи) спокойствия, трезвого расчета. Парень знал, что поднимись он сейчас с лежки, начни как слепыш торкаться в безвидной тайге, и в марте на Большом празднике недосчитаются люди двух промысловиков из большой и славной семьи Почогиров. Поэтому Степа крепко спал, плотно ел (благо продуктов для себя и деда навьючил на оленей с избытком) и ждал, когда же наконец можно будет подняться со своего вынужденного лежбища.
Еще тогда, когда распутывал следы Ганалчи, парень по редкому, удивительно редкому в тайге фарту легко добыл одного соболя. И теперь целыми днями трепал и мял обснятую шкурку, чтобы не терять без толку времени. Каждый уважающий себя промысловик всегда обомнет, обгладит, расчешет, обмоет добытый им мех. По тому, в каком виде сдаются шкурки, легко угадать охотника. В семье Почогиров самый плохонький мех выглядит порою лучше, чем у других самый что ни на есть пышный. Степа мнет шкуру, а сам мысленно прикидывает — куда направил свой след Ганалчи. Ко времени, когда последняя лавина снега плотно улеглась на землю и солнце озолотило и высветило тайгу, Степа твердо знал: Ганалчи мог пойти только к Белому чуму на ручье Намакан.
Туда и поспешил он с оленями, не давая ни им, ни себе отдыху.
Макар Владимирович добыл второго, точно такого же соболя. Ему даже спервоначалу показалось, что он заново переживает то, что пережил несколько дней назад. Так же металась по ветвям голубая молния, так же замирал черной волною соболь, так же горели агатовые капельки с алыми точками. Он даже потрогал в турсуке обснятую, вычищенную и выглаженную шкурку. Второй был точно таким же, как первый, — две капли одного родника.
Кончилась охота, и старик понял — теперь навсегда. Силы оставляли его, как оставляет тепло добытого тобой зверя. Нет, боль не мучила, она ушла еще тогда, с первым скользким шагом лыж по следу первого Бегалтана (так он назвал про себя соболя). Боли не было больше в его теле, просто она закольцевала напрочно горло и грудь, словно бы окаменев там, став частицей его самого.
Он мог еще двигаться, думать, даже радоваться добыче, но все это происходило как-то помимо него, словно бы во сне. Он решил, что до табора ему не дойти. Отметил по приметам, только одному ему ведомым, что в тайгу придет большой снег и надолго положит ниц все живое. Прикинул, что сил, которые оставляют его, хватит добраться до ручья Намакан, где есть хороший чум, он сможет еще занести в жилище дров для очага, приготовить постель и лечь подле огня, туго набив в котелок снега для хлебова, у него еще оставалось с пригоршню пищи. Если все будет так, как было и раньше, если боль не лопнет (он представлял свою болёзнь в виде громадного нарыва внутри себя) и не прольется внутрь горячей отравой, он, пожалуй, еще смажет дождаться Степана, экономя каждый глоток пищи и каждую каплю влаги (в чуме есть казан, и в нем он растопит снег, заварив кипяток еловой хвоей и стеблями кислицы с последней щепотью истертого в пыль чая).
Потом, когда придет Степан (он обязательно придет на Намакан), сил уже не будет, чтобы встать на ноги, но внук придет с оленями. Сладит из малых деревцев волокушу и отвезет его сначала на Становой (ведь надо же взять оленей, нарты, добычу), а потом и домой на Усть-Чайку. Если не лопнет боль, он отлежится в чуме, подлечится и, как всегда, выйдет с добычей к Большому празднику. Двух Бегалтанов подарит Ваньке — Большой голове.
Думая так, он медленно продвигался шаг за шагом к Белому чуму, что стоит над ручьем Намакан. Ему повезло: недалеко от чума ручей просочил лед, образовав маленькое оконце полыньи. Теперь не надо было тратить сил, чтобы набивать казан и котелок снегом. А может быть, ему и еще довезет. Оголодавшие собаки добудут зайцев и приволокут их трепать в чум. Он сможет тогда добавить к горстке своей пищи еще и заячьего отвара…
Степан вышел к ручью Намакан. Дед был жив. Над чумом едва-едва заметной змейкой струился дым — Ганалчи экономил топливо.
Профессор Потапов проснулся рано. Он встал с постели, накинул на плечи легкий ворсистый халат и, стараясь как можно мягче ступать, вышел из кабинета в коридор. На ногах профессора мягкие, с толстой подошвой домашние туфли. Они скрадывают шаг, но Потапову кажется, что он слишком шумит в этот ранний час. Дверь в спальню приоткрыта, и он проскальзывает мимо нее на цыпочках, едва касаясь пола. И все равно:
— Саша, ты? — слышится голос из спальни.
— Да. Почему ты не спишь? Ведь так еще рано.
Александр Александрович входит в комнату. Широкое дачное окно расшторено. Наметившийся рассвет медленно сочится через двойные рамы.
Потапов боится смотреть в лицо любимого человека, боится увидеть влажный лоб, крутые впадины височных костей, сползшие к подбородку складки кожи некогда красивых щек, глаза, жаркие, верящие, ждущие, с чуть размытыми белками, от частого употребления лекарств цвета круто сваренной патоки. Он боится смотреть в это лицо. И знает, что посмотрит весело, влюбленно, как прежде, как всю их жизнь. И улыбнется со всей искренностью своей прямой, честной души. Лишь бы только обмануть, не дать догадаться, во что превратила ее красивое лицо болезнь.
И он смотрит на жену и замечает новые морщины на лице, синюшность губ, заострившийся еще больше, чем вчера, нос и лицевые кости. Даже сумрак не в силах скрыть от него всех тех изменений, которые появились за нынешнюю ночь.
— Ты хорошо выглядишь сегодня, Оля! Я думаю, что вот-вот мы переживем кризис и пойдем на поправку, — говорит Александр Александрович и целует жену в липкий холодный лоб, внутренне содрогаясь от этого прикосновения, которое приносит ему ни с чем не сравнимые страдания.
Каждый раз, совершая это, он чувствует непоборимую в себе брезгливость. Он, который видел столько страшных в своем натурализме картин, мерзких язв, смрадных ран и еще много такого, от чего видавшие виды госпитальные и клинические сестры закрывали глаза и затаивали дыхание, готовые рухнуть в обморок, он спокойно, словно бы не замечая ничего вокруг, орудовал над всем этим хирургическим инструментом, ни разу не почувствовав в себе брезгливости или отвращения. А тут, перед постелью самого дорогого человека, вдруг ощутил в себе все эти чувства.