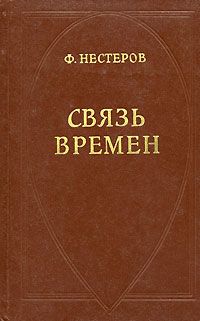Федор Кравченко - Семья Наливайко
— Видишь, нынче-то и сам доволен, — проговорила она. — Человеку и в беде легче, коли у него совесть чистая. Что ж, старайся… Старайся, Александр Иваныч… Колхоз в долгу перед тобой не останется…
«Да и я в долгу не останусь», — зло подумал Ворона, хотя с лица его еще не сошла заискивающая улыбка.
III
Почтальон Керекеша ехал на велосипеде, держась за руль одной-единственной левой рукой. Правой руки он лишился на фронте и вынужден был переменить профессию счетовода на письмоносца. Это было для него «временное явление» — он учился писать левой. И, может быть, успел бы «набить» себе руку, если бы реже пил.
Когда-то у него был красивый почерк; он виртуозно считал на счетах, рисовал карикатуры для стенгазеты. И теперь, лишившись руки, он горевал, заводил дружбу с теми, кто мог «чаркой попотчевать»; подвыпив, он бесконечно говорил об ужасах войны.
До ранения Керекеша служил в одном полку с Максимом, поэтому Катерина Петровна хорошо относилась к бывшему фронтовику. Узнав, что Максим пропал без вести, Керекеша ничуть не удивился, словно так и должно было случиться. Катерина Петровна спросила:
— Это часто бывает?
— Да, это бывает, — ответил почтальон. — Стоит зазеваться — и будь здоров! Но это не страшно. Один мой товарищ пропал без вести и оказался в плену.
Керекеша видел, как заволновалась Катерина Петровна, и торопливо прибавил:
— Да вы не беспокойтесь, все будет в порядке. Ручаюсь. Я вот сам сначала пропал без вести, а потом меня в госпиталь перетащили…
Он заврался и все испортил. Катерина Петровна вернулась домой совсем убитая. Но все же она продолжала встречаться с почтальоном; она все ждала: может быть, он скажет что-нибудь новое?
В нетрезвом виде Керекеша покачивал головой и бессвязно говорил о том, как он в первом бою вместе с Максимом бежал от немцев «во все лопатки»… Катерина Петровна нетерпеливо прерывала его, оглядывалась по сторонам: не слышит ли кто-нибудь болтовню Керекеши?
Сегодня почтальон был трезв, и Катерина Петровна приветливо улыбнулась ему. Задержав Керекешу, она потрогала пальцами набитую письмами и газетами сумку:
— Есть что-нибудь для надоеды?
«Надоедой» она сама себя называла за то, что каждый раз спрашивала, нет ли ей писем или телеграмм, заставляя Керекешу вновь и вновь рыться в сумке, хотя он с самого начала утверждал, что для Катерины Наливайко ничего нет.
Не отвечая на вопрос, Керекеша начал просматривать пачку писем, вынимая их из сумки по одному. Катерина Петровна напряженно следила за пальцами его руки. Стоило им задержаться на каком-нибудь конверте, как сердце Катерины Петровны замирало.
Как часто, прочтя фамилию на конверте, Керекеша опускал письмо обратно в сумку, а Катерина Петровна, подавив вздох, виновато говорила:
— Ну, давайте газеты и письма для моей бригады, побегу в поле.
На этот раз Керекеша особенно усердно рылся в сумке, перебирая письма; он даже подмигнул Катерине Петровне. Ее начало знобить, колени задрожали, а руки сами собой потянулись к почтовой сумке. Она уже не могла сдержать себя и свободной рукой помогала почтальону.
Увидя Керекешу, к нему со всех сторон начали сходиться свободные от работы колхозницы. Был жаркий день. Керекеша вытирал рукавом гимнастерки потный лоб, сердито смахивал пальцами влагу с желтых жидких усов и уже с любопытством постороннего человека наблюдал, как жадные руки колхозниц и подростков перебирают письма.
Он был чужим человеком в колхозе, но его успели полюбить, и часто колхозницы угощали его пирогами или пышками. Многим он приносил хорошие вести, и ему прощали то, что он часто пьет. Когда он был трезв, ему охотно давали «чарочку». Как-то еще весной, получив телеграмму от Виктора, Катерина Петровна весь вечер просидела с ним, вспоминая родные Сороки и угощая Керекешу наливкой своего приготовления. И теперь он, глядя на Катерину Петровну, уже самостоятельно еще и еще раз перебиравшую письма, думал о вкусном ужине, который предстояло ему разделить со счастливой матерью, получившей весточку от сына.
Но письма не было, и Керекеша уже с тревогой следил за разочарованным лицом Катерины Петровны. Когда она оставила наконец сумку, передав ее другим колхозницам, искавшим адресованные им письма, Керекеша испуганными глазами окинул окруживших его людей, еще раз лично пересмотрел все адреса и вдруг хрипло спросил:
— Граждане, кто взял письмо для Катерины Петровны?
Колхозницы смотрели на почтальона с удивлением, а подростки настороженно переглядывались и отходили. Они знали, что, если пропадет что-нибудь из сумки Керекеши, он уж кого-кого, а ребят не пощадит. Запомнят они, как крепок кулак единственной руки бывшего фронтовика.
Катерина Петровна покачала головой и невольно улыбнулась. Она решила, что Керекеше просто показалось. Никакого письма не было ей, и никто, конечно, не мог его присвоить. Колхозницы и ребята просматривали адреса на полученных ими письмах, и их недоумение возрастало.
— Це мени, ось точно написано.
— Чего ж бы я взяла чужое письмо? Глянь — это же от моего Василька.
— Что ж ты разыгрываешь старую женщину, никто из нас никакого письма для Катерины Петровны не видал…
Керекеша сдвинул брови, на лбу его гармошкой сбежались морщины. Не глядя ни на кого, он мигал глазами и кусал наползавшие на нижнюю губу усы, пытаясь что-то вспомнить. Наконец с виноватым видом проговорил:
— Показалось мне, что ли? Ну, как сейчас, помню, Катерина Петровна: такой синий конверт и красивыми буквами адрес написан.
— Наверно, от Романа, — обрадовалась мать. — У него почерк красивый. Или от Виктора…
Керекеша озабоченно продолжал:
— А может, показалось? — Морщины на лбу почтальона разошлись, глаза обнадеживающе глянули из-под желтых бровей. — Завтра я этот вопрос проясню на почте, Катерина Петровна. Будьте уверены: если только письмо имеется, оно будет доставлено вам в самый раз. Керекеша понимает, что значит письмо в наше время…
IV
Ворона, брезгливо морщась и сплевывая, сгребал железной лопатой навоз в кучу. Уж лучше запах карболки, чем этот постоянный смрад темного и тесного коровника, где в два ряда стоят рыжие, понурые коровы. Доярки утверждали, что до войны в этом помещении было светло, чисто. Может быть… Очень может быть… Кое-где под потолком и сейчас еще висят покрытые паутиной, мышиного цвета, электрические лампочки. В «дежурной» валяются доильные аппараты. Но «век электричества» кончился здесь с тех пор, как колхозные мастера ушли на фронт. Некому отремонтировать и наладить движок… В домах мерцают коптилки. По ночам у дверей коровника тускло горит фонарь «летучая мышь». Да и его порой уносят в конюшню или свинарник…
Доярки говорили, что в первые дни войны еще можно было добиться порядка в коровнике. Но когда «пройдоху» Кругляка назначили скотником, все здесь пришло в упадок. Он, этот нелюдим Кругляк, не вывозил навоза из помещения, а сбрасывал его в самые темные углы. «Это просто вредительство», — возмущались доярки…
Следовало немедленно выгнать Кругляка из колхоза, но Сидор Захарович послал его пока на конюшню: пускай, мол, поработает под контролем других конюхов, может быть, исправится. Люди-то позарез нужны…
Став скотником, Ворона тоже обратил внимание на молчаливого Кругляка. У этого высокого, длиннорукого человека было странное лицо: брови его угрюмо наползали на злые, зеленоватые глаза, а толстые губы улыбались. Он улыбался постоянно, даже в те минуты, когда председатель отчитывал его за безделье.
В то время, когда Ворона вывозил тачкой навоз из коровника, Кругляк подошел к нему, попросил закурить.
Александр Иванович насыпал ему махорки в газетную бумажку и опять принялся за свое дело. Кругляк медленно крутил цигарку, глядя на скотника. Коричневое, худое лицо его, как всегда, улыбалось.
— Ты, сказывают, большим начальником был? — спросил он, когда Ворона, опрокинув пустую тачку, остановился у порога, чтобы передохнуть.
— А что? — хмуро спросил Ворона.
— Ничего… так…
«Нет, не так, — подумал вдруг Ворона. — Неспроста ты про меня расспрашивал».
Он мог без обиняков спросить: что ему, собственно, нужно, этому Кругляку? Но не так глуп Ворона, чтобы поступать опрометчиво. Предчувствуя, что этот нелюдим хочет сказать нечто важное, Ворона не торопил его. Вместе с тем нельзя было упускать случай.
Доярки были заняты своим делом: доили коров, подносили корма к яслям. Да они обычно и не смотрели на Кругляка — слишком он «напакостил» им…
В том, что Ворона и Кругляк курят на некотором расстоянии от коровника, не было ничего удивительного, на дверях ведь висит дощечка с надписью: «Курить строго воспрещается».
И ведь не случайно Кругляк отошел подальше от дверей, — такие тонкости Ворона умел понимать. Человеку хочется поговорить откровенно. О чем? О своем прошлом или о прежних «постах» Вороны?