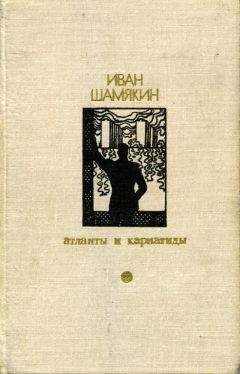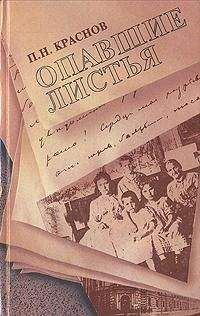Иван Шамякин - Атланты и кариатиды
Игнатович посмотрел на сына.
Девятнадцатилетний Петр, студент географического факультета, юноша вдумчивый и серьезный, гордость отца, опустил близорукие глаза в тарелку и… странно улыбался, казалось, скептически, насмешливо: мол, вот результаты вашего пуританского воспитания, любуйтесь.
Припомнился недавний спор с сыном, когда тот вежливо и тактично, но с полной убежденностью пытался доказать, что нынче пропаганда слабо воздействует на молодежь, что какие-то другие факторы — какие, он еще как следует не разобрался, возможно, экономические — нейтрализуют силу высоких и правильных слов и толкают молодых людей на удовлетворение потребительских нужд. Пришлось потратить немало энергии, чтоб доказать сыну, что он ошибается, строя столь широкие обобщения на отдельных фактах. Теперь он подумал, что этот чертенок Марина, в свои неполные пятнадцать лет не признающая никаких авторитетов, больше, чем нужно, думающая о тряпках, не так наивна, безобидна — она плохо влияет на брата, делает его, активного комсомольца, скептиком.
Мысль эта покоробила, и он рассердился не столько на дочку, сколько на жену — это она распустила свою баловницу, без конца потакая ей, безотказно выполняя ее капризы.
Не закричал, слишком много чести. Наоборот, понизил голос, процедил сквозь зубы:
— Ты как разговариваешь с родителями? Я тебе дам показуху! — и, обращаясь к жене: — Завтра же чтоб не видел на ней этих красных сапожек! И меховой шапки! Давно ли с горшка? А уже наряжай ее как принцессу.
— Сапоги я сама выброшу, они старые. А костюмчик все равно купите! — дерзко ухмыльнулась Марина. — Ваш же лозунг: удовлетворять растущие потребности!.. Для этого вы работаете.
Петр, который обычно мучительно переживал подобные ссоры (и это радовало отца), весело рассмеялся. Смех сына прямо-таки испугал Герасима Петровича; показалось, сын теряет к нему уважение, которое ему было дорого, которым он гордился. Он на миг смешался: как же себя держать? Но возмущение прорвало плотину спокойствия и равновесия, которую он многие годы возводил на работе и дома, опрокинуло правило — не волноваться из-за мелочей, особенно семейных, потому что они всегда есть и всегда будут и принимать их к сердцу — не хватит сердца.
Загремел на всю квартиру, как это делают многие отцы:
— Я сейчас удовлетворю твои потребности! Вот возьму ремень…
Но с чертенка — как с гуся вода.
— Будешь отвечать. Я Сосновскому пожалуюсь.
— Пошла вон, поганка!
Марина смело посмотрела на отца, подумала, уйти ей или остаться, поднялась, но пригрозила:
— Ну хорошо. Вы меня еще попросите.
— Жди, поклонюсь в ножки. Приду в школу и перед классом расскажу про твои фокусы.
— Приходи, повесели класс, а то нам скучно. — И, медленно, гордо и независимо пройдя по комнате, хлопнула дверью.
Игнатович кипел. Только присутствие сына сдерживало его, а то он выказал бы свой гнев в полную силу. Это же черт знает что такое! С ним уже лет пятнадцать никто не отваживался разговаривать таким тоном.
Для тысяч людей — каких людей! — он высокий авторитет, наставник. А с собственной дочкой не знает, как быть. Что же это такое? Кто на нее влияет? Что делать? Бить, кричать? Это ему не к лицу. Чувствовал, тем, что сорвался здесь, за столом, только унизил себя перед этой маленькой вертушкой. Во всяком случае, авторитет свой отцовский не поднял.
Лиза вздохнула и сказала с укором:
— Нельзя так, Герась.
— А как можно? Ты изучала педагогику.
— У девочки переходный возраст.
— Переходный — переездный. Это ты ее избаловала. Наряжаешь, как под венец.
— Известное дело, я виновата. Кто же еще? Во всем, что не ладится в доме, виновата я. А что хорошо — твоя заслуга. У тебя выгодная позиция и дома, и на работе: ты можешь переложить вину на других.
— Работу мою не трогай!
— Ты сам доказывал, что все в жизни взаимосвязано.
— Знаю я твою женскую софистику. И сегодня у меня нет охоты ее выслушивать.
Лиза снова вздохнула.
— В том-то и беда. То у нас нет охоты выслушать друг друга. То — еще чаще — нет времени.
— Хорошо. Я слушаю. Ты мудрая. Так скажи, что делать с этой твоей тряпичницей?
— Не надо называть нас так. И думать как о тряпичницах.
— Только и всего? Какая глубокая мудрость! А подтекст прозрачен, как дистиллированная вода: покупай нам все, что мы захотим, удовлетворяй все наши прихоти, и мы будем хорошими, будем послушными. Да если хочешь знать, самая большая угроза всему святому, за что мы проливали кровь, вот в этой потребительской психологии. Это же страшно, — он сжал руками голову, — что у восьмиклассницы нет другого идеала, кроме костюма, которым ей хочется всех удивить. И это моя дочь! Ужас!
— Между прочим, все не так трагично, как тебе кажется. Ты просто плохо знаешь женскую психологию.
Петр опять засмеялся.
Отец посмотрел на него удивленно, непонимающе: над чем сын смеется?
Юноша поблагодарил мать за ужин и пошел в ту же комнату, куда нырнула Марина. Когда-то комната называлась детской, но теперь сын, студент, имел там права на один стол, а спал здесь, в столовой, на диване; комнатой завладела Марина, против чего отец тоже пытался возражать, однако безуспешно. Теперь он припомнил это, и его возмущение женой и дочерью еще усилилось.
— Имей в виду, — спокойно и рассудительно (о, эта женщина умеет владеть собой!) сказала Лиза. — Твои наскоки на Марину не сближают тебя с сыном. Он любит сестру. Несхожие характеры ткнутся друг к другу.
Бросила соли на свежую рану. Кстати сказать, не впервые, Уже несколько раз говорила, что, мол, напрасно он тешит себя тем, что Петр в восторге от него, отца, от его дел и слов. Может быть, когда-нибудь и восторгался, но теперь вряд ли. Выходит сын из-под ею влияния, а он не видит этого или не хочет видеть.
Герасим Петрович считал, что со стороны жены бестактно попрекать его этим. Этот упрек бросал на него тень не только как на отца, хорошего семьянина, но и как на партийного руководителя. Это больно задевало.
Вдруг вспомнился утренний разговор с Карначом, его признание. Подумал: а можно ли осуждать Максима? Эти чертовы бабы любого доведут.
— Претендуешь на глубокое проникновение в человеческую психологию, а до сих пор не знаешь, что родная сестра разводится с мужем.
Лиза остолбенела, застыла с грязными тарелками, которые хотела унести на кухню.
— Какая сестра?
— Да уж не Марфа же в шестьдесят лет.
— Даша?!
— У меня был Максим. Заявил официально. Из-за этого он отвел свою кандидатуру в горком.
— Ты… ты серьезно?
— Нет, мне захотелось пошутить после милого разговора с дочкой и… с тобой.
— Боже мой! На кого обиделся! На нас с Мариной. Постыдись, Герасим! Что у них там стряслось?
— А это я у тебя хотел спросить. Ты сестра.
Лиза поставила тарелки на край стола, опустилась на стул, бессильно уронив руки.
— Ты меня ошеломил. Такая любовь! Все завидовали. Одна я чувствовала… и не любила этого цыгана, который заглядывался на каждую юбку.
— Ты сразу нашла виноватого. А я скажу тебе, что сестрица твоя тоже штучка. Мещанка. Тряпичница. Вот они, гены, проявились, — кивнул он на дверь комнаты, где находились дети.
Лиза не обиделась. Понимала, что ссориться сейчас с мужем нет никакого смысла.
— Одного не могу постигнуть… Откуда страсть к тряпкам у Марины, еще как-то можно объяснить. А вот откуда она у дочерей такого голяка, каким всю жизнь был ваш отец, этого не понять никакому психологу.
Даже этот его выпад против них всех и в известном смысле против отца-покойника Лиза простила мужу. Молча согласилась, что есть у них такая слабость, и по-своему объяснила ее:
— От бывшей бедности, наверно. Противоположные причины подчас ведут к одним следствиям. Я позову Дашу сюда. Сейчас же. Хорошо, Герась?
— Как хочешь. Твоя сестра.
— Пожалуйста, не делай вид, что тебя это мало трогает. Ведь я понимаю, тебе это еще более неприятно, чем мне. Ты не только был связан с этим… горе-архитектором по работе. Ты дружил с ним.
— Карнач не горе-архитектор, а настоящий архитектор. Сохраняй, пожалуйста, объективность. Неизвестно еще, кто из них больше виноват.
Даша явилась через полчаса, не больше, после Лизиного звонка. Герасим Петрович не успел прочитать статью в «Экономической газете», как раздался ее молодой веселый смех. Ей отворила Марина. Он услышал, как они поцеловались, как Даша сказала:
— Любовь моя, племянница. Мариночка! Ягодка! Цвети на зависть нам, старым. На горе женихам.
Герасим Петрович недовольно подумал:
«Надо оградить дочку от ее любви».
Марина так же довольно смеялась и, понизив голос, говорила комплименты тетке, хвалила какую-то ее обнову.
Но вышла из кухни Лиза и не словами, а, должно быть, жестом остановила шумную радость тетки и племянницы.