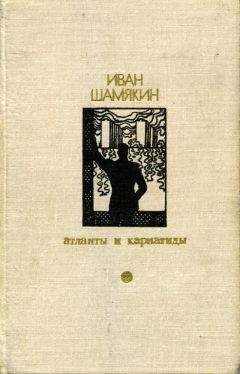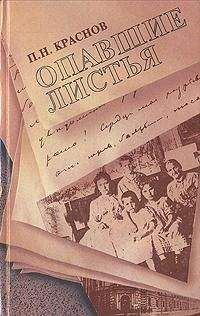Иван Шамякин - Атланты и кариатиды
Ни читать, ни спокойно думать он не мог. Росло желание пойти и прекратить болтовню сестер. Но понимал, что это бестактно, сами же позвали Дашу.
Наконец, оживленно поговорив в коридоре с Мариной, Даша ушла, Лиза, озабоченная и грустная, вернулась в спальню.
— Подкинули вы мне проблемку, — недовольно сказал Герасим Петрович, забыв, что он первым узнал и сообщил жене об этой «проблемке».
Лиза тяжело вздохнула, ласково сказала:
— Я понимаю, Герась, как тебе нелегко. Я знаю твое отношение к Максиму. Но ты должен проявить твердость. Распустился человек. Погибает. Надо спасать в первую очередь его самого. Ну, разумеется, и Дашу. Ты видел, до чего она дошла. И какое благородство! Мучилась и никогда ни слова. Даже мне. Надо спасать семью.
— Легко сказать — спасать. А как это сделать?
— Герасим! Неужели тебя надо учить?
Нет, учить его не надо. Он не желает, чтоб его учила даже жена!
Шугачевы привыкли к Вадиму. Он стал приходить, когда Вера была еще на первом курсе. Полине поначалу он не понравился. Она высказала свои сомнения мужу. Но Виктор верил детям и, может быть, поэтому придерживался самых демократических взглядов на их свободу, во всяком случае, считал, что не нужно и даже вредно вмешиваться в интимную жизнь взрослых детей. А потому сказал Полине: «Выкинь из головы старозаветные представления. А то начнешь выбирать женихов по своему вкусу. А вкус у тебя не слишком, если ты выбрала меня. Лишь бы Вере нравился. Будь готова принять такого зятя, какого выберет она. И невестку такую, какую приведет Игорь».
Она знала, ее отношение к тому или иному человеку влияет на отношение к нему всей их семьи — от Виктора до Катьки. Поэтому была очень осторожна в проявлении своих антипатий. Лучше проявлять симпатии — дети будут расти более добрыми. А она только и думала о том, чтоб дети выросли душевными, добрыми людьми.
Поэтому и Вадима приняла как своего человека в доме.
Встревожило ее, что после того, как институт посылали на картошку этой осенью, Вадим перестал заходить. И Верино настроение в последнее время на нравилось, неровное какое-то: то чересчур веселое, то не свойственное ей, подавленное.
Полина обрадовалась появлению Вадима.
Катька оповестила о нем веселым криком:
— Верка! Жених пришел!
Вера вышла из своей комнаты и шлепнула Катьку по мягкому месту. Катька прилетела на кухню, чтоб пожаловаться, но мать еще добавила фартуком, правда, по-матерински, небольно.
Маленькую пролазу репрессивные меры сестры и матери не угомонили. Она уселась на стул возле Вериной комнаты и приставила ухо к двери.
Вера обрадовалась, что после долгого перерыва, когда они встречались только в институте или случайно в кино, Вадим опять так же просто, как прежде, ранним вечером, когда нет еще дома ни отца, ни Игоря, пришел к ней. Обрадовалась и испугалась, потому что подумала, что этот его приход должен решить то, самое главное.
До очумелости, как признавалась она сама себе, любила она этого каштанового бога. Вадим для нее был особенным, непохожим на других, на всех юношей в их городе; сколько она ни приглядывалась, красивее его не встречала.
Вадим поздоровался просто, за руку, как со всеми остальными. А ей хотелось прижаться к его груди, услышать удары его сердца, удары учащенные, как у нее, как тогда, в деревне, а потом на носочках дотянуться до его губ, почувствовать их сладкую теплоту, смешную колкость подбородка. Он каждое утро бреется, а под вечер подбородок у него уже колючий, от этой колючести ей почему-то всегда делалось смешно.
Нет, после такого его приветствия не может она кинуться с поцелуями.
Вера подошла и повернула в дверях ключ.
Вадим как будто испугался.
— Зачем?
— Катька. От нее нет покоя.
Вадим развернул трубку ее чертежа; свертки ватмана лежали на столе, на шкафу, на диване, в углу комнаты на полу. Не удивительно — три архитектора в одной квартире!
Вадим спросил:
— Твой? — И вздохнул. — Не выйдет из меня, должно быть, архитектора. Не люблю чертить. Рисовать люблю, а чертить не люблю. Не хватает терпения. Это, наверно, должно быть в крови. От предков. Как у тебя.
Вера сразу поняла, что он говорит не то, что ему хочется сказать, для чего пришел.
Она решила помочь ему. Заглянула снизу вверх в глаза, с ласковой доверчивостью близкого человека спросила:
— Вадик, почему ты?..
— Что я?
— Ну… не такой, как раньше. Ты больше не любишь меня, да? Тебе неприятно встречаться со мной?
— Не выдумывай, Вера. Это твоя всегдашняя болезненная подозрительность. И ревность. Но…
— Что «но»?
— Мы же договорились, что все проблемы разрешим сами. Разве я отказывался от чего-нибудь? А ты… ты присылаешь ко мне сватов, — и скривился в недоброй усмешке. — Очень современно!
У Веры больно екнуло сердце, оборвалось и упало куда-то вниз, туда, где зарождалась новая жизнь. Чуть не стало дурно. Желтые круги поплыли перед глазами. «Боже мой! Какой стыд! Позор! Он думает, что я послала… свата. Слово какое! Ужас!»
После разговора с Максимом Евтихиевичем она в ту ночь подумала, что сделала глупость, доверив ему тайну, которую боялась открыть даже матери. Все эти дни она мучилась, не зная, что делать. Иногда ей хотелось предупредить Вадима. Но через несколько минут начинало казаться, что будет неплохо, если взрослый, умный, добрый человек поговорит с ним, поговорит по душам, дружески. Раза два она бегала к горсовету с намерением зайти к Максиму Евтихиевичу и попросить, чтоб он никому ни слова. Но от дверей возвращалась назад. Если б он зашел к ним в эти дни домой, то она, наверно, все переиграла бы. Пускай бы шло как идет. В любом случае позор был бы меньше, чем теперь. Послала свата…
— Вадик… пойми, пожалуйста. Я не посылала свата. У меня и в мыслях этого не было. Мне просто было очень тяжело после разговора с тобой, и я доверилась…
— Вот это меня больше всего и удивляет… Почему ты доверилась ему?
— Ну, знаешь… Как тебе объяснить? Максим Евтихиевич умный…
Вадим опять гадко усмехнулся.
— Да уж не дурак!
— Он… он друг нашей семьи. Давний и самый верный. Он еще маленькой носил меня на руках…
— А теперь, случайно, не носит?
Обида, причиненная человеком, которого она любит, которому готова отдать всю жизнь, была так сильна, глубока и так неожиданна, что Вера размахнулась и изо всей силы влепила любимому пощечину, такую звонкую, что Катька услышала. И тут же, оскорбленная, обиженная, испугавшись собственного поступка, упала на диван, на свертки чертежей, и разрыдалась.
Тогда Катька вскочила, забарабанила кулачками в дверь и гневно закричала:
— Не смей бить! Не смей бить! Зачем бьешь Веру? Открой мне! Открой! Я тебе покажу. Рыжий кот! Вот ты кто!
На крик прибежала из ванной, где стирала белье, Полина, силком оттащила Катьку от дверей. Девчушка упиралась и кричала на всю квартиру:
— Пусти меня! Пусти! Он ударил Верку. Послушай, Верка плачет. Как он смеет? Рыжий кот!
Матери было смешно и горько. До слез тронула Катькина защита старшей сестры. Обычно они пять раз на день ссорятся то из-за одного, то из-за другого и потом жалуются друг на друга. Встревожилась: что там произошло за закрытой дверью? Неужто в самом деле Вадим мог ударить Веру? Или малышке показалось? Если правда ударил, то это действительно ужасно. Но зайти к ним в комнату (а Катька следом) и начать выяснять взаимоотношения молодых людей — просто невозможно. Пускай сами разберутся.
Вадим, получив пощечину, бросился было к двери. Но Катькин крик, а потом голос Полины Николаевны остановили его. Вера тоже притихла, лежала ничком, уткнувшись лицом в смятый чертеж, ее худенькие плечи содрогались от рыданий.
Вадиму стало ее жаль. До него наконец дошло, что то, что он сказал, — глупость и тяжелое оскорбление для девушки. Может быть, впервые он понял, что не везде можно так легко и безответственно бросаться словами, как бросаются они, парни-студенты, в общежитии, соперничая в остроумии. С Верой так нельзя. Тем более нельзя здесь, в этом доме, в этой большой и дружной семье.
Он несмело попросил:
— Вера, прости. Я глупо пошутил.
Плечи ее затряслись сильней.
Вадим опустился у дивана на колени, прикоснулся к ее плечу, провел ладонью по голове, по беленьким мягким-мягким волосам, которые там, в деревне, где они копали картошку, всегда так славно пахли мятой. Вернулась прежняя нежность, жажда ее близости.
— Верочка, милая, прости. Ну, я дурак. Остолоп. Эгоист. Но я тебя так люблю. Потому и ревную ко всем. Конечно, нелепо, смешно. Ну, тресни меня еще раз. Пожалуйста. И давай помиримся. Хочешь, я пойду и сейчас же скажу твоей матери, что мы женимся? Хочешь?
Вера стремительно подняла голову, сверкнула глазами.
— Нет! Не хочу!
VII
В Минске было много дел. Как всегда. Еще в самолете Максим расписал каждый час недолгого дня — когда куда зайти, где какие вопросы решать. Из практики знал, что план такой редко выполняется с желаемой точностью, но все же в известной степени дисциплинирует и помогает уменьшить количество пустых разговоров, ненужных переходов и переездов. Предполагал обратно лететь вечерним самолетом, но, спланировав день, увидел, что это невозможно. Хотелось встретиться со старыми друзьями-архитекторами не в институтах, а за дружеским столом. За бокалом вина можно узнать больше профессиональных новостей, чем за неделю официальных разговоров в разных учреждениях. Но самое главное — поговорить с Ветой. Разговор этот не будет похож на все прежние. Раньше всегда не хватало времени ни у него, ни у дочки. «Как живешь? Как учишься?» — «Хорошо. Что там мама?» — «Деньги нужны?» — «Папа! Ты задаешь детские вопросы. А кому они не нужны, деньги?» — «Но ты тратишь по две стипендии». — «Папа! Консерватория не институт, где готовят бухгалтеров». — «Это у вас мода — разыгрывать гениев? Могу тебя уверить, что ты еще не гений. Студент, который готовится стать бухгалтером, тратит не меньше энергии, и есть ему надо не меньше…»