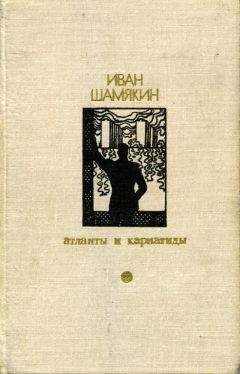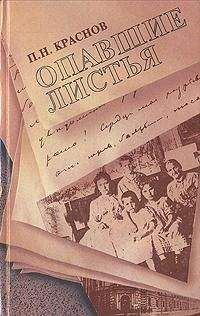Иван Шамякин - Атланты и кариатиды
— Нина Ивановна, ты картошку когда-нибудь чистишь? Это ж надо уметь так холить руки, — он оглядел статную фигуру моложавой женщины в новеньком, с иголочки, простом, но со вкусом сшитом костюме. Мало в городе женщин, которые умеют так одеваться — просто и красиво. Дашу тянет на крикливую сверхмоду.
— А муж у меня зачем? — без улыбки ответила Нина Ивановна на его вопрос о картошке, все еще настороженная и испуганная.
— Бедный Макоед? Да и все мы, мужчины. Возвращается матриархат.
— По-моему, это вам хочется вернуть матриархат, чтоб еще больше работы взвалить на наши слабые плечи.
Нине Ивановне не терпелось поскорей перейти от галантной болтовни к более серьезному разговору, который, может быть, прояснил бы ее положение.
— Какие новости в архитектуре, Максим?
— Нина Ивановна, богиня моя, все новости должны быть у вас, теоретиков. А нам, практикам, некогда полистать журнал. Сегодня один бородатый тип потребовал, чтоб я пошел показал, где ему поставить уборную, простите.
Роза, недавно приобщившаяся к архитектуре, любила разговоры на специальные темы и слушала, разинув рот, но уборная ее опять рассмешила.
— А высокому функционалисту пришла идея надстроить николаевскую казарму на Ветряной. Можешь представить, какой шедевр мы возвели бы.
У Нины Ивановны немного отлегло от сердца: нет, кажется, он по-прежнему занят своей работой.
— Твой гениальный Макоед тоже не нашел другого места, как площадка напротив Лесной, чтоб посадить общежитие института. Еще один шедевр!
Нина Ивановна засмеялась, почти уже успокоенная; сарказм по отношению к мужу ее не задел.
Но тут же неожиданно Максим нанес чуть ли не смертельный удар.
— Надоела мне до чертиков эта нервотрепка. Завидую вам. Чистая наука. Безгрешные юные души.
— Так переходите к нам! — весело предложила Роза. — Вас с распростертыми объятиями примут.
Не ведало наивное существо, что в один миг превратилось из лучшего друга и слуги во врага своей покровительницы. Но Нина Ивановна не испепелила ее взглядом: боялась взглянуть, чтоб не выдать себя.
— Открой лучше, Максим, нам, бабам, секрет своей молодости. Гляжу на тебя и дивлюсь: при такой цыганской черноте ни одного седого волоса.
— Не сплю на чужих подушках.
Роза сползла под стол.
— Не думаю, что мой Макоед спит, — без улыбки ответила Нина Ивановна.
— Макоеду ты часто мылишь голову, вот и полысел.
Нина Ивановна засмеялась, хотя на сердце было пусто и холодно.
Роза кудахтала от смеха.
Заведующая кафедрой упрекнула лаборантку.
— Роза, вы — что малое дитя.
Та вмиг умолкла, испугалась: почему вдруг на «вы»?
Резко зазвенел электрический звонок. Над головой и где-то далеко в коридоре затопали, загрохотали, даже стакан звякнул о графин. Максим поморщился: легкие железобетонные конструкции непригодны для зданий, где собирается столько людей, все дрожит, над головой грохот, будто танки идут. В старом корпусе Минского политехнического, где он учился, ничего подобного не было.
Вадима Кулагина он нашел, когда окончился перерыв и студенты собрались в аудитории. Тот неохотно принял приглашение выйти поговорить — не хочет пропускать лекцию.
Максим, глубоко скрыв сарказм, сказал совершенно серьезно:
— Приятно видеть студента, который не пропускает ни одной лекции.
Попал в цель — друзья Вадима весело засмеялись.
Юноша был уверен, что его ведут в деканат, поэтому держал себя несколько нахально. Удивился, когда Максим предложил выйти на улицу. Удивился и… испугался. Максим простил ему нахальство, в его возрасте многие ведут себя так, это глупая мальчишеская форма утверждения своего «я», своей независимости. Сам он, правда, таким не был, потому что до института армия и война уже воспитали в нем чувство собственного достоинства. Но ни на войне, когда каждый день смотрели смерти в глаза, ни теперь, в мирной жизни, Максим никому не прощал трусости. Поэтому, увидев, что Кулагин испугался, сразу настроился против него.
Вадим не хотел одеваться, должно быть, нарочно, чтоб разговор не затянулся.
— Я закаленный.
— А я не закаленный, — с ударением сказал Максим. — Поэтому хочу разговаривать на равных. Я в пальто, в меховой шапке. А ты рядом будешь, как сирота, обращать на себя внимание прохожих. Что они подумают обо мне?
Вадим оделся.
Пошли проспектом по направлению к полю. Оно недалеко, новый институт строился на окраине. После его постройки проспект протянулся дальше: посадили молочный комбинат, рядом жилые дома. Многие в городе гордятся этим районом. Но не главный архитектор. Максим считает эту застройку своим самым большим поражением: слишком уж «по-новому», шаблонно, по-сверхтиповому. Чистейший функционализм. Такие районы есть в каждом городе. Единственное их достоинство, что новые. А что будет, когда они постареют?
Он спросил у студента, как ему нравятся планировка района и его архитектурный облик. Вадим ответил:
— Мне нравится. Современно.
Вот так, коротко и ясно: современно. Формула всеобъемлющая. Попробуй спорить.
Поэтому, оставив архитектуру в покое, Максим безо всяких подходов спросил о главном:
— Ты любишь Веру?
Вадим не удивился, как будто ждал этого вопроса.
— Это имеет отношение к архитектуре?
— Это имеет отношение к судьбе будущего архитектора. Между прочим, есть нерушимый закон, он не записан в моральном кодексе, но вытекает из него: прежде чем стать хорошим специалистом в любой области, надо стать человеком. Просто человеком.
Но тут же обожгла мысль: «Завтра он узнает, что я развожусь с женой, и можно представить, как истолкует мои слова».
Вадим помолчал минутку и ответил как будто даже застенчиво:
— Мы дружим.
— Знаешь, что от вашей дружбы будет ребенок?
Юноша остановился, глотнул морозный воздух, по лбу из-под шапки красивых каштановых волос поползла бледность, но не дошла до щек, они не побледнели, по-прежнему светились здоровым румянцем.
— Откуда вы… знаете?
— Я друг семьи.
Он съежился, и бледность перешла на щеки.
— И родители знают?
— Пока нет.
— Откуда же вы?..
— Мне сказала Вера.
Губы его скривились в подленькой ухмылочке, и бледность поползла обратно, вверх.
— Почему такое доверие?
Максиму стало гадко. Если б речь шла о судьбе его собственной дочери, то на этом он бы, верно, прекратил разговор с «женихом». Но Веру такая развязка мало порадует. Этой бедной влюбленной девочке надо помочь выйти из ее тяжелого положения с наименьшей душевной травмой. Да и всем Шугачевым — Поле, Виктору… Наконец, надо исходить из того, что нет людей безнадежных, тем более не безнадежен этот парень, в хороших руках — а у Шугачевых руки хорошие — он еще может стать человеком.
— Почему такое доверие, тебе, видно, трудно понять. Но ты мог бы знать из ее рассказов, что я нес ее из роддома. Нянчил, когда ей было год, два, три… Существовала когда-то такая категория — крестный отец. Часто он бывал духовным отцом. Ему, особенно если он близкий друг семьи, дети доверяли больше, чем родителям. У тебя не было такого человека?
Вадим молчал.
— Представляешь ее душевное состояние, если она отважилась признаться мне в своей беде? Хотя, по логике, для женщины это должно быть радостью, счастьем…
— Что? — должно быть, Вадим задумался и не уловил смысла его слов.
— То, что она будет матерью.
— Ну, не очень-то этому радуются в наше время.
У Максима зачесались руки, но он спрятал их в карманы пальто.
Студент достал сигареты, щелкнул красивой зажигалкой. Дым потянуло на Максима, и ему тоже захотелось курить. Но своих сигарет не было — нарочно не носил, чтоб не поддаться искушению. Бестактность студента — закуривает, не спросив разрешения, — оправдал: должно быть, волнуется, а если волнуется, значит, не законченный циник.
Максим смягчился.
— Думаю, ты знаешь, что в таких случаях делает мужчина?
— Что делает? — наивно спросил студент и закашлялся, поперхнувшись табачным дымом.
— Неужто не знаешь? — с иронией повторил Максим. — Я имею в виду настоящего мужчину. У которого есть совесть. Честь. Надеюсь, что ты именно такой.
Вадим не сразу ответил.
Максим дал ему подумать, не торопил.
— У меня есть отец и мать, я их уважаю. Я ничего не решал без их согласия. А они против моей женитьбы.
— Твое уважительное отношение к родителям хвалю. Ты говорил с ними?
— Отец сказал: женишься — живи как хочешь. А как я проживу, пока учусь?
Максим отметил, что Вадим не отвечает на его вопрос, говорил ли он с родителями о Вере. Он ссылается на слова отца, которые могли быть сказаны год и два назад за вечерним чаем, обычные слова, которые говорят отцы по конкретному поводу или просто так, желая продемонстрировать «житейскую мудрость».