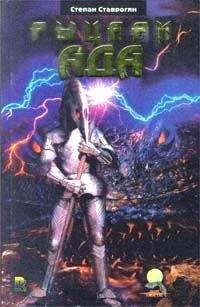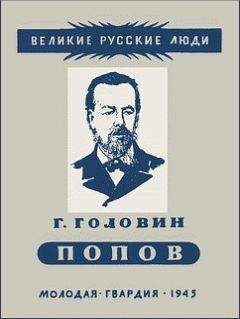Глеб Горбовский - Шествие. Записки пациента.
Не остыв от безотчетного раздражения на старушек, Мценский с вызовом глянул в участливые, внимательные глаза «морячка», рассчитывая ушибиться об эти глаза, как это происходило с ним не однажды в общении со случайными собеседниками, ушибиться, чтобы нагрузить себя свежей болью; и поначалу даже разочаровался, наскочив на врачующую теплоту встречного взгляда, на мягкую податливость всего облика этого пожилого мужчины, которому наверняка было уже за пятьдесят.
Несуетливым, обстоятельным движением руки незнакомец извлек из-под плаща шариковую самописку и прямо на газете записал номер телефона. Затем, привстав, долго копошился в брючных карманах. Наконец что-то такое нашел.
— Вот, примите пока что, Викентий Валентинович. — На грубой, увесистой ладони «морячка» лежали белая таблетка и круглая прозрачная капсула с жидкостью, похожая на еще не сваренный рыбий глаз.
— Что это?! — отшатнулся от снадобья Мценский. — Мне сейчас комара без запива не проглотить, не только таблетку…
— А вы под язык. И сидите смирно. Пока я звонить хожу. Примите, примите. Это — снимает.
От принятых пилюль, одна из которых была обыкновенным, хотя и быстродействующим валидолом, самочувствие Викентия Валентиновича несколько стабилизировалось: оно не сделалось лучше, оно стало терпимее.
Глядя на возвращающегося от телефонной будки «морячка», Мценский подумал: «Странный какой-то мужик. На алкаша не похож: глаза внимательные, открытые, на щеках спортивный румянец. Мылом за версту разит. Чистюля. Чего еще надо? Скорей всего — опер на пенсии. Скучно дома сидеть, вот и упражняется. Хотя опять же — с какой стати? Ведь не с ума же сошел?»
— Позвонили?
— Позвонил. Сказал, что у вас приступ стенокардии.
— Думаете, поверили?
— А вы разве притворяетесь? По-моему, вам действительно плохо.
— Мне уже лучше.
К их скамье приблизилась женщина с необычайно резвым мальчуганом дошкольного возраста, который с места в карьер начал визжать на каком-то игрушечном музыкальном инструменте.
Мценский и его новый знакомец, не сговариваясь, заспешили прочь. Теперь они шли в сторону монастырских стен, шурша опавшей листвой и перебрасываясь словами. С каждым шагом беседа их делалась все энергичнее. Со стороны могло показаться, что эти двое мужчин негромко, вежливо ссорились. Один из них, тот, что помоложе, как бы все время уходил прочь, а другой догонял его.
— Скажите… — цедил Мценский сквозь зубы, упираясь подбородком себе в грудь и даже не пытаясь узнать, слышит ли его собеседник и вообще — идет ли тот рядом? — Почему все-таки меня выбрали? Мы что… знакомы?
— Я хочу вам помочь.
— С какой стати, черт возьми?
— Потому что это моя профессия.
— Профессия… помогать? Надо же.
— Лечить. Вы мне подходите. Вы и ваш недуг.
— Стенокардия?
— Назовем это стенокардией.
— Надо же… Как говорят скептики, просто не верится.
— А вы никакой не скептик, Викентий Валентинович.
— Кто же я, по-вашему? — дрогнувшим голосом поинтересовался Мценский, не замедляя шагов, продолжая смотреть в землю.
— Вы — жертва. Жертва обстоятельств, ущемленного честолюбия, духовного одиночества, социального и нравственного мироустройства. Продолжать?
— Шикарный диагноз. Могу прослезиться. Вырос в собственных глазах на целый сантиметр. Однако… кто не жертва этих обстоятельств и устройств? Вы, что ли, не жертва? Нет, вы мне ответьте, почему прицепились?! Каких это особенных обстоятельств я жертва?! Да вы… Да вы просто наивный чудак! Или… или — трепло! С похмелюги я, со страшенной! Вот мои обстоятельства. С глубочайшего, так сказать, бодуна! Отсюда и недуги…
За разговорами Мценский не заметил, как оба они очутились на кладбище, среди старинных, запущенных могил. В тени странных, совершенно не похожих друг на друга деревьев, поднявшихся прямо из людского праха, высаженных в свое время — каждое отдельно, по своему, особому поводу. Были тут дрянные, трухлявые тополя, вихрастые, молодящиеся клены, кривобокие рябины-инвалидки, внезапно стройные березы, дуплистые ясени, мрачные, бородавчатые дубы и даже настоящие плакучие ивы, но более всего — сирени, а также бузины.
Мценский очнулся от дурмана раздражения на лекаря в тельняшке, стоя перед надгробьем из полированного черного камня, покрытого некогда позолоченной вязью надписи. Мценского почему-то заинтересовал именно камень, а не то, над чьим прахом его воздвигли. Осклизлым от похмельной бессонницы глазам лень было разбирать потухшие буковки.
«Мрамор не мрамор, гранит не гранит…»
— Могила Некрасова, поэта, — донесся до ушей Викентия Валентиновича голос морячка.
— Какого Некрасова? Того самого, что ли? Классика?
— Того самого. «Однажды в студеную, зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Или: «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг?»
— Н-не может быть…
— Как, то есть, не может быть? Все мы люди, все мы человеки, смертные, то бишь.
— Я в том смысле, что и не предполагал. Мне казалось, что Некрасов где-нибудь в Лавре лежит. А он… надо же где!
— Вам простительно.
— Это почему же?! Что я, не человек? Как-никак учитель…
— Приглядитесь, какое тут запустение. Впечатление такое, что это забытые могилы, не так ли? А ведь это святые могилы. Формально они охраняются государством. А на деле — двумя-тремя старушками. Я сюда часто захаживаю. Снаружи — Московский проспект: лоск, блеск, скорость. А в двух шагах, за стеной… бездна. Попробуйте любого остановить и спросить: где, скажем, похоронен великий русский поэт Федор Иванович Тютчев? Все, что угодно, назовут — и Лавру, и Литераторские мостки на Волковой кладбище, и Ваганьковское с Ново-Девичьим московским, и Овстуг орловский а то, что Тютчев здесь, рядышком…
— Ну, положим, не Тютчев, а всего лишь могила Тютчева. Послушайте, вы что же, Тютчева читаете? В тельняшке своей? Извините…
— Ничего особенного. А вообще-то — читают вывески. А Тютчева в сердце носят. Со школьной скамьи. «Люблю грозу в начале мая!» Или — «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить!» Это же достояние народа, музыка этих слов. Вот памятники отечественной старины восстанавливаем, копошимся помаленьку. Хорошее дело. А разве могила великого поэта — не памятник старины, не священный знак?
— Послушайте… Давайте присядем где-нибудь. У меня ноги не идут.
— Вам не интересно про могилы? — оглянулся на Мценского «морячок», продолжая углубляться под своды деревьев в шуршащую палой листвой пещеру кладбища.
— Мне интересно, — кряхтел Викентий Валентинович, поспешая за лекарем. — Но мне еще и тошно, черт побери!
— Сейчас присядем. Вот могила поэта Аполлона Майкова. Слыхали о таком?
— Слыхал.
— А вот могила Константина Случевского.
— Тоже поэт?
— Вполне. Сейчас о нем вспомнили опять. Переиздали. Цитируют.
— Тут что же, одни поэты лежат? А вы сами-то небось тоже того, стишками балуетесь?
— Не балуюсь. Меня на это кладбище один пациент привел. В свое время. Вот он — «баловался». И теперь даже мастак по этой части.
— И чем же он болел, этот ваш пациент? Небось тоже стенокардия?
— Еще какая! Под забором валялся. Бутылки по урнам собирал. Жена от него ушла. Даже две жены…
— И что же, вылечили?
— Помог. Поспособствовал. От этого недуга нельзя вылечить. Можно только вылечиться. Самому. Ощутили разницу? Да-да: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Ильф с Петровым удачно изволили пошутить. Первая заповедь в нашем деле: захотеть. Страстно пожелать. А вот, кстати, могилка поэта Константина Фофанова, рядом с камнем художника Врубеля. Так вот Фофанов при жизни страдал хроническим алкоголизмом.
— Вы так смешно говорите: «при жизни страдал», как будто и после жизни можно чем-нибудь страдать. И потом — лично я стихов не пишу. Даже прозы. Гонораров не получаю. Почему мной-то заинтересовались?
— Не знаю. Я видел, как вы летели вниз по эскалатору. И я подметил тогда: на ваших губах виноватая улыбка. Как будто вы извинялись за неловкость.
— Какие тонкости.
— И мне показалось, что вы еще хотите жить. Я наблюдал: падали вы не мешком, не обреченно, а довольно-таки упруго, оптимистично и, повторяю, с виноватой улыбкой на лице. Ни переломов, ни вывихов. Кровь только из носу. Пара капель. Экономный вы на кровь. А все потому, что жить еще хотите. Знаете разницу между оптимистом и пессимистом? Пессимист считает, что умрет только он один; оптимист — что умрут и все остальные. Ну-ка, ответьте: самое дорогое в вашей жизни — что было? Не есть, а было? Это вам тест, контрольный вопрос. Только откровенно. И — мигом. Оглянитесь мысленно и назовите! Ну, что перед глазами?
— Самое дорогое? Лицо одной женщины, пожалуй…
— Кто она, эта женщина?