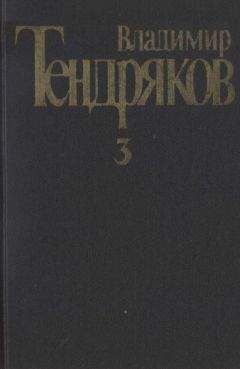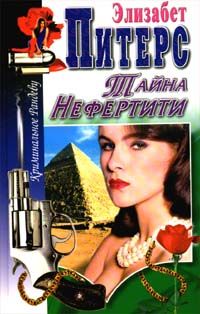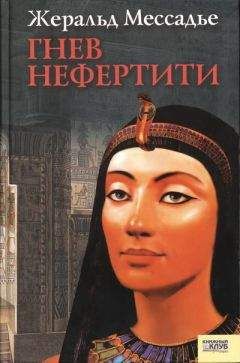Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
Ей пытались сунуть деньги, она отталкивала:
— Господь с вами, грех-то какой… Ванюшки моего нету, так уж вспомяните его добром…
И женщины с поезда плакали вместе со старухой о ее Ванюшке.
Если перебрать день за днем с глубокой древности всю историю России, не было счастливее дня, чем 9 мая 1945 года. Еще в самом начале войны Сталиным было сказано: еще несколько месяцев, полгода, в крайнем случае годик… Но шли месяцы, шли годы, а война не кончалась: голодные пайки, работа по двенадцать-пятнадцать часов в сутки, похоронные со свежей почтой, сводки о сдаче городов, и кажется — нельзя выдержать, вот-вот лопнут силы, но — выдержали. 9 мая 1945 года — оглянись в глубь веков — не было счастливее дня.
Федор находился в немецком городке. Этот город с окраин был не тронут, черепичные крыши торчали за кронами вековых вязов и лип. Каждое утро дома по улицам расцветали перекинутыми через окна спален пуховыми матрацами, а обыватели выходили на улицу, ловили взгляды русских военных и раскланивались:
— Гутен морген, гер официр!
С окраин город не тронут, а центр… Кучи кирпича и пепла; как гнилые зубы, торчат стены домов. В центре города уцелел лишь бронзовый памятник известному немецкому философу, имевшему честь здесь родиться. Философ сидел с раскрытой книгой на коленях, через книгу связисты перекинули телефонный кабель. Из одного штаба в другой шли по кабелю обычные армейские распоряжения, а бронзовый философ величаво и отрешенно вглядывался в этот кусок проволоки, старался понять его мировой смысл.
В центре города засели фольксштурмовцы, наспех собранные и вооруженные мальчишки, им приказали умереть, и мальчишки, воспитанные в добропорядочных немецких семьях, были послушны. Артиллерия на прямой наводке разнесла их и весь центр города, бронзовый философ-идеалист уцелел случайно.
На верхнем этаже уютного дома, где квартировал Федор, по временам раздавался рыдающий смех, смех, доходящий до судорог. Там жила взаперти фрау Хайзер, двое ее мальчиков были убиты в центре города, и она сошла с ума.
Город давно был взят, давно уже не раздавалось на его улицах даже одиночных выстрелов. Немцы вели себя благоразумно и предупредительно:
— Гутен морген, гер официр, — и старались заглянуть с улыбкой в глаза.
Но вот ночью под окном прогремела автоматная очередь, еще одна, еще, взлетела ракета, голубой яркий след окна поплыл по стенам. Федор вскочил, начал натягивать одежду и тут услышал захлебывающийся от радости вопль:
— Победа!
Кричали, обнимались, целовались, стреляли в воздух. Победа!
Старшина выкатил на средину улицы бочку вина, вышиб дно, заорал, обращаясь к темным окнам, за которыми прятались испуганные выстрелами и криками жители:
— Мир, фрицы! Эй, вылезай! Пейте! Радуйтесь! Мир!
До утра праздновали в покоях Федора. Старшина, бывший минометчик, крутошеий мужчина с изуродованной осколком щекой, пьянел и все больше удивлялся:
— А ведь выжили… Мы-то дожили, черт возьми, до этого дня!
Этот день… За спиной свист снарядов, трупы товарищей, и уже фашистские наводчики не направят в твою сторону ствол орудия, и танки с крестом не двинутся на твой окоп. Конец!.. Этот день гарантирует каждому жизнь. Что может быть святей такого дня!
Но день еще не начинался, занималось голубенькое весеннее утро в чужом городе, под чужим небом. Пили за Победу, а вверху корчилась в веселой истерике сумасшедшая фрау Хайзер, отдавшая Гитлеру двух сыновей.
Занималось утро, среди развалин горбился бронзовый философ. Он глядел на телефонный кабель, перекинутый по бронзовой книге, и силился понять что-то свое, далекое от людских радостей и бед.
На уцелевших улицах вывешивались флаги: красные, напоминающие о Победе, и белые — о капитуляции.
— Гутен морген, гер официр. — Обыватели этого благопристойного городка тоже, кажется, радовались.
И в это же время в глубине России, на станции близ родной Матёры, старуха оделяла незнакомых пассажиров с проходящего поезда перезимовавшей ягодой:
— Ванюшку моего добром вспомяните…
…Путь лежал в деревню Матёру.
И вспомнилось раннее утро, последнее довоенное утро. Вспомнилось дерзкое шлепанье сандалий по асфальту, сумрак, прячущийся под арками ворот, ночь, притаившаяся в окнах, солнце, ударившее в лоб самого высокого здания, — весь тот странный мир, где корни деревьев прячут за решетки, водой поливают камень.
Федор Матёрин вспомнил все это, когда набитый солдатами, офицерами, мешочниками, командированными, рабочими по вербовке поезд приближался к Москве. Стало грустно. У него есть прошлое — то, что делает человека если не старым, то достаточно взрослым. Потянуло увидеть след своей юности, как уже при седине тянет к себе какой-нибудь тополь или покосившаяся калитка, где в первый раз, холодея от робости, поцеловал девчонку.
И Федор не стал пробиваться в очередь к билетной кассе, а, спрятав поглубже свой литер, вышел из вокзального здания.
И опять в Москве ни одного знакомого, ни одного, кроме самого города. А с городом «на заре туманной юности» знакомство было самое мимолетное.
На ступеньках вокзального крыльца, прямо на мостовой сидели, лежали, ели, спали, плакали, смеялись, молчали, беседовали женщины, старики, дети, солдаты, матросы, колхозники, помятые интеллигенты, бригады рабочих, русские, грузины, армяне, узбеки, татары, вездесущие цыгане… Война потревожила людей, сорвала с обжитых мест, разбросала в разные стороны. Каждая война — великое переселение народов. Теперь война кончилась, началась отливная волна, не менее размашистая и широкая, чем в прилив. Любой вокзал — становище кочевников, какие не снились самым непоседливым нашим предкам.
Инвалид без ног, волоча по пыльному асфальту обшитые кожей культяпки, тряс картузом, ловил мятые рубли, сипло пел пропитым голосом:
Жена родная не призвала
И отвернулась от меня-а…
Федор с трудом узнавал тот утренний удивительный город, город-мечту. Кое-где на окнах виднелись крест-накрест наклеенные бумажные ленты — былое пожелтевшее заклинание от бомбежек. Часто на каменных цоколях проступает полустертая надпись «Бомбоубежище» и стрела, указывающая путь.
Нет, незнаком, и ему, демобилизованному офицеру, не обещает пристанища. Но проездной литер лежит в кармане незакомпостированный, поезд пропущен — хочешь не хочешь, а раз напросился, будь гостем города.
Куда идти? Как убить время? И вспомнил о Третьяковке. В прошлый раз он так туда и не попал. Началась война — до того ли, сразу бросился к вокзалу.
Федор шел не спеша, козыряя встречным военным. Не спешил и не торопился — а вдруг та Третьяковка будет закрыта. Закрыта так закрыта, станет бесцельно шататься по улицам.
Четыре года на войне, а из окопа мир выглядит иначе, чем из окна теплого дома. Иначе выглядит, иначе оценивается. За эти годы Федор не помнит, чтобы когда-нибудь любовался закатом, зато не раз видел дымные зарева пожарищ, обнимающих небо. Где-то в первый фронтовой день умерла в его душе бессмертная Нефертити, а вместе с ней появилась бесхитростная мечта… Хорошо вставать с первой зорькой, хрустя валенками по снегу, идти к конюшне, открывать ворота, выводить коней к обледенелой колоде. Кони станут подымать к размытому восходу лохматые морды, вода будет капать с их губ…
Живет еще недалеко от Матёры, на станции, Савва Ильич Кочнев, художник-самоучка, почитающий Федора за талант. Но как раз судьба-то Саввы Ильича и остерегает — берегись! Ни пава, ни ворона среди людей, ни настоящий художник, ни настоящий учитель — аппендикс в обществе. Не признан, а признавать-то нечего, не понят, а что понимать? Весь на ладони. Нет уж, минуй чаша сия.
2И вот уныло тихий, прокаленный солнцем Лаврушинский переулок. Вот милиционер у ворот… Потемневшие от времени и непогоды футболисты все еще отвоевывают друг у друга мяч. Монумент Сталина вознес каменную голову до самой крыши.
Вход открыт, милиционер не обратил внимания на нового посетителя в полевых погонах…
Музейная прохлада Третьяковки лета 1945 года. Сводки Информбюро уже перестали останавливать людей на улицах, и уже вид почтальона, подымающегося по лестнице, никого не заставляет бледнеть. Но существуют карточки — их надо отоваривать, существуют разовые талоны, ордера, сверхнормированный рабочий день, армейские бутсы на ногах девушек вместо туфель с высоким каблуком, пахнущий керосином лярд вместо сливочного масла. Война кончилась, кончился пожар, но угарный чад еще не рассеялся. Казалось бы, не должно еще наступить время для искусства.
Не должно бы… Но в залах Третьяковки полно посетителей. Те же девушки в солдатских ботинках, в латаных кофточках, парни, не успевшие снять гимнастерки, женщины с голубовато-бледными лицами от хронического военного недоедания, простые солдаты, притихшие, замкнутые в себе подростки-рабочие, интеллигентного вида велеречивые старички, ищущие собеседника, чтобы излить на него свое восхищение «колоритом», «рефлексами», «одухотворенностью». Пестрый народ, народ, а не избранные. И то, что он в дни карточек и ордеров, маргарина и девичьих юбок, сшитых из плащ-палаток, пришел сюда, к «Березовым рощам» и «Золотым плесам», — не признак ли духовной молодости, неутоленной жадности к жизни? Не доказательство ли, что война безвозвратно окончена?