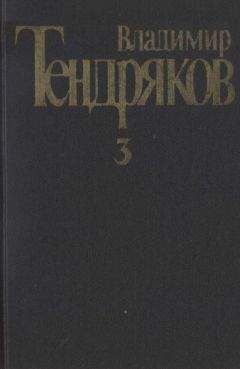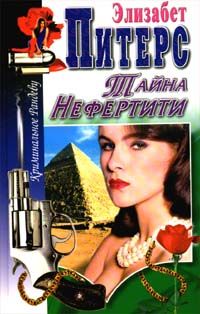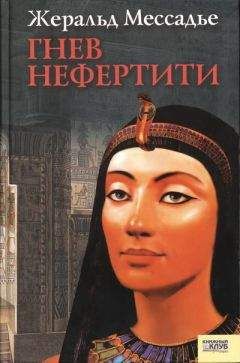Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
Летом он любил спать на повети. На сене разбрасывался старый отцовский тулуп. Запах сена, пыльный чердачный запах повети, запах тулупа — густой, овчинный — и легкий, горьковатый, щекочущий — табака. Когда-то этот тулуп был новым, его на зиму пересыпали махоркой, чтоб не ела моль. До сих пор запах этого табака сохранился. Тулуп мягко и ласково обнимает, прижимает к себе. Запах овчины и табака — отцовский запах, а объятия тулупа — теплые, материнские. Темно в повети, только сквозь щели прохудившейся крыши блестит случайная звезда, и бревенчатая поветь вместе с сеном, с крышей, с землей, со звездой мерно раскачивается — сейчас он уснет, властно и ласково обнимает его уставшее тело тулуп… Уснет, он счастлив, что может ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться…
И вдруг Федор стряхивает сон. Снег и черное небо… Нельзя спать. Сон и снег — смерть! Надо ползти. К своим!.. Какая тяжелая голова, какое неповоротливое каменное тело, как больно двигать руками. Руки подламываются, Федор тычется лицом в снег, снова приподымается и снова падает… Нельзя спать, если хочешь жить. Нить кабеля по серому снегу… Во рту пересохло, язык распух. Плодятся перед глазами рыжие расплывчатые пятна, плывут в сторону, пропадают, на их место появляются новые.
Федор ползет. Кажется, ползет. Выдерживают руки тяжесть головы… Выдерживают, но вот снова подламываются. Это ничего, они окрепнут, им нужно дать только отдохнуть…
И снова тело становится легким, оно само подымается в воздух, оно, кажется, плывет… К своим! Плывет само. Не надо ползти…
Жаркий летний день, на земле от деревьев пятнистая дрожащая тень — вызванивающие зайчики по траве. А в воздухе лениво плывет тополиный пух. Плывет над изгородями, над деревенской дорогой, над горячими завалинками под бревенчатыми стенами. Плывет тополиный пух, не желает ложиться на землю. А земля сверху близкая, знакомая. Как интересно глядеть на эту землю с высоты и лететь, лететь, плавно, лениво, не падая. Можно, как в трубу, заглянуть в черный колодезный сруб, можно пронестись над крапивными зарослями, можно миновать двор, пересечь грядки с капустой, на задах овраг, но и он не помеха… Река… Летишь над рекой, сквозь воду маячат песчаные косы, под ними — темная, загадочная глубина…
В эти секунды человек, стынущий среди заснеженной степи, на нейтральной полосе между своими и чужими, человек с перебитыми ногами, истекающий кровью, потерявший последние силы, — в эти секунды он счастлив.
Тополиный пух в летнем воздухе, тополиный пух над землей, обласканной солнцем.
А человеку неполных девятнадцать лет. Он еще не любил в жизни женщин, строил не дома, а убогие землянки, он баловался красками, но только баловался… Неполных девятнадцать лет, он ещё не успел стать человеком, он лишь мечтал им быть.
Тополиный пух гонит ветер…
Стыдливые зори над пасмурными лесами, слежавшиеся туманы под блеклой луной — счастливые откровения на холсте красками, знакомые губы Нефертити… Всего этого может не быть.
Плывет тополиный пух…
И коченеют на морозе руки…
Обшитый крупными листами фанеры потолок, запах йода, чей-то голос упрямо долбит:
— «Гвоздика»! «Гвоздика»! Отвечайте, «Гвоздика»!
Чуть скосил глаз — под потолком угол зеркала.
— «Гвоздика»! «Гвоздика»! Говорит «Лотос». «Гвоздика»!.. Черт бы их побрал! Не может же быть порыва…
Над самой головой обрадованное:
— Эге! Моргает!
Знакомое лицо — узкое, морщинистое, с пучками белобрысых бровей. Лицо морщинистое, но не старое, где он его видел?
— Ну как, дружба? Очухался?
Федор попытался подняться.
— Лежи! Лежи!
Но он уже успел разглядеть черный рояль, на лакированной крышке, как на полке, грязные котелки. И вспомнил, что морщинящееся в улыбке лицо — младший лейтенант Зеленчаков. На рояле Сашка Голенищев выклеивал одним пальцем веселенькое: «Соловей, соловей, пташечка…»
— Голенищев… Там… Он ранен… А Сивухин наповал…
Мопщинки распустились:
— Голенищев здесь. Вытащили, как и тебя.
— Где он?
Помолчал, ответил нехотя:
— За порогом. Ему теперь все равно где лежать.
* * *Жарким августовским днем пятитонный грузовик затормозил посреди украинского села. С высоты холма, откуда сбегала дорога, это село с белыми хатками, утонувшими в зелени, казалось уютным, открыточно красивым. Вблизи же — на побеленных стенах оспины пуль и осколков, стекла выбиты, посреди дороги воронки, за зелеными купами деревьев прячутся пепелища.
Шофер грузовика выглянул из кабины, крикнул в кузов:
— Сыпьте. Дальше не везу.
Несколько солдат, подхватив тощие вещмешки, спрыгнули на землю, огляделись.
На площади, у колодца, обнесенного бутовым камней, толпились пленные — мятые суконные мундиры нараспашку, маскировочные в лягушачьих разводах костюмы, пыльные заросшие лица. Возле них, рослых, звероподобных на вид, — мальчишка с автоматом, круглая конопатая рожа, поблескивающая медаль «За отвагу» на затертой гимнастерке.
— Пасешь? — бросил ему Федор.
— Приходится, — важно ответил конопатый и ломающимся баском прикрикнул: — Шнель! Шнель! Хватит прохлаждаться.
Пленные покорно побрели по дороге, сгорбленные спины, болтающиеся руки, потухшие глаза, — все как один высокие, заматеревшие, за ними — вразвалочку, сплевывая через губу, парнишка, едва ль не подросток.
Пока Федор лежал в госпитале, отъедался, отсыпался, бегал в самоволку на костылях, шло время. Такие конопатые, моложе его, призваны в армию и уже обстрелялись, медалей понахватали.
А Федор так и не успел попасть в Сталинград, пленные немцы были для него в диковинку.
Через камышовые крыши хат ветер бросил на улицу листовки. Они легли на грязь возле колодца, догнали понуро бредущих пленных, обметая их пыльные шевелюры, усеяли дорогу. Ни пленные, ни конопатый парнишка не обратили на них внимания.
Федор поднял один зазывно белеющий листок:
«Родные подсолнухи зовут тебя!» Рисунок-виньетка: аляповатые подсолнухи выше игрушечной хатки. А дальше и читать нечего — сплошь фотографии, одна за другой рисующие райскую жизнь некоего Филиппа Сидоровича Лобуденко, сдавшегося добровольно в плен, получившего за это ферму, двух коней, пять коров, свинарник с цементным полом. Даже читать не трудись — все в наглядных картинках. Вот и сам Филипп Лобуденко в чистой рубахе. Филипп Лобуденко в той же чистой рубахе держит двух жеребцов, жеребцы спокойны, а их хозяин тревожно скалит лошадиные зубы. Филипп Лобуденко с женой в окружении свиней на цементном полу собственного свинарника…
«Родные подсолнухи зовут тебя!» А Федор помнит и другую лирику. Тогда они советовали: «Спасай свою жизнь, пока не поздно…» Потом тоном ниже: «Переходя к нам, не забудь захватить с собой котелок…» Теперь — жеребцы, породистые коровы, свиньи, и все в картинках, с припевом. «Родные подсолнухи зовут тебя!»
Идет время, ничего не скажешь.
Федор перекинул через плечо вещмешок, зашагал. В его походке была заметна порывистая раскачка — правая нога срослась, но стала на три сантиметра короче.
Федор шагал в соседнее село, где расположился штаб дивизии, в которой придется служить.
Идет время, но пока идет еще и война, до конца не близко.
Первое ранение Федора, первое, но не последнее. Он принес с фронта три нашивки.
Часть вторая
По улицам Москвы не торопясь вышагивал младший лейтенант — хлопчатобумажная гимнастерка, суконные полевые погоны, по кирзовым сапогам недавно прошлась щетка уличного чистильщика. Нельзя сказать, чтобы вид бравый.
Путь лежал из Судет через Европу в деревню Матёру. На пути стояла Москва.
Из деревни писали, что известие о Победе пришло на станцию вместе с ночным пассажирским поездом. Люди вываливались из вагонов, плакали, обнимались, носили на руках какого-то полковника, качали едущих из госпиталя солдат.
Платон Муха, маляр, писавший вывески, ходил в пляшущей, плачущей от радости толпе, носил в обнимку четверть самогона, держал в руке стакан, останавливал всех и предлагал:
— Ну-ка, пропусти за Победу.
И сам пил:
— Со счастьем великим, друг.
Какая-то старуха из деревни, притащившая корзину клюквы на продажу, зазывала:
— Родненькие, сюда! Родимые, ко мне идите! Касатики вы мои милые…
И сыпала стаканами мягкую, перезимовавшую ягоду в фуражки, в подставленные карманы, в бумажные кульки, каждому сообщала:
— У меня Ванюшку убило, сынка… Ванюшка мой на войне этой погиб… Люди добрые, вспомяните Ванюшку моего…
Ей пытались сунуть деньги, она отталкивала:
— Господь с вами, грех-то какой… Ванюшки моего нету, так уж вспомяните его добром…
И женщины с поезда плакали вместе со старухой о ее Ванюшке.