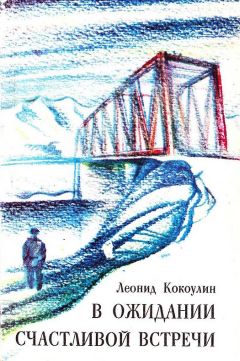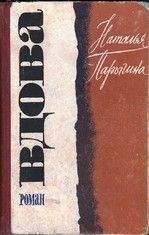Александр Плетнёв - Шахта
— Мышеловка-западня, а не лава... — заключил и неторопливо разделся до майки, открыв бочкообразное тело на коротких толстых ногах.
— Ты, Ефим, совсем что-то врасширку пошел, — оглядел его Азоркин. — Тебя, как бочку, катать можно, ей-богу.
Валерка Ковалев, шахтер-первогодок, как сидел на конвейере, пил воду из фляги, так и повалился, взвизгивал по-девчоночьи, вскидывая ноги в резиновых сапогах последнего размера.
— Ну ты... жердина! — Колыбаев уставился на Валерку выпуклыми глазами, словно их кто выдавливал изнутри. — Кабель вон за комбайном расправь — весь в узлах...
Валерка с услужливой виноватостью кинулся выполнять приказ, осклизаясь на кусках угля, ударился каской о сломанный верхняк-перекладину, отскочил да об рудстойку плечом пришелся.
— Спокойней, Валера! — крикнул Михаил и с сожалением подумал: «Ему и на-гора небось тесно, а тут, как в клетке, бьется. Вымахал, угловастик. В шахту залез, дурачок. Сколько профессий под солнышком наплодилось, а выбрать не смог, научить, видно, некому. — И тут же на свое перекинулся: — Тьфу, разжалелся, а у самого, учителя, сын не в горный ли техникум пошел?..»
Думая о такой несуразности, удивляясь ей, Михаил, однако, помнил и о настоящей минуте.
— Так как, мужики, костры будем выкладывать? — обратился к напарникам.
— Не было наряда кострить. Я за двести тонн угля расписался, — сказал Колыбаев, перематывая осклизшую от пота, шибающую тухлостью портянку. — «Москвичи» опять на шахту пришли... — внезапно сменил он разговор. — Комаров говорит, бери автомобиль, а тут три тыщи, ну никак, хоть умри!.. — Бригадир хлестнул портянкой об рудстойку, задумался все об одном и том же: когда к пяти тысячам рублей он сможет добавить еще три и купить машину. Вид у него был разнесчастный постоянно, если кто заводил разговор о машинах. Пять он скопил легко, а на трех тысячах «забуксовал» — дети стали старшеклассниками.
— Вонючий же ты, козлина. — Азоркин брезгливо сморщился, укладываясь на доску-семерку. — Лень в стирку сдать... Ты и «Москвича» завоняешь.
— Тебе что, спальня тут?! — окрысился Колыбаев и, надувшись, закричал Валерке: — Узнай та-ам! Запустят, нет конвейер, в крестителя их мать!
— Ты чего, Ефим: «Наряд, наряд!» Сам же сказал, посмотрим на месте. Ну, гляди... — Михаил направил сноп света в отработанное пространство, где кровля, перекалечив крепь и нависнув брюшиной, едва не касалась почвы. — Ей же и помощь-то небольшая нужна. — Он говорил о лаве, как о живой. — Пяток костров, часа на три работы, и жива-здорова...
Но Колыбаев в завал не глядел, отвернулся даже, всем видом показывая, что речь идет о пустом.
— Брось ты, Михаил, дуб кулаком перешибать, — сказал Азоркин, позевывая. Он лежал вверх лицом, прикрыв каской глаза. — Кровля садиться начнет — убежим. Ноги в руки — и тягу. Не в первый раз: за двадцать лет побегали. — Зевнул с подвывом, помечтал: — Эх, с часик бы конвейер не включали... Ночка была, скажу я вам! Не ночка, а эта... Курская дуга. Сегодня бы еще после смены, только Райка моя пасти стала. Раньше ничего, а сейчас за каждым шагом следит. Трудно жить, мужики!..
— Пойти позвонить Головкину, что ли?.. Пусть сам поглядит на лаву, он же еще в нарядной сидит... — говорил Михаил не то себе, не то Колыбаеву с Азоркиным.
— Кто сидит? — Азоркин приподнялся на локоть. — Отсиделся наш Василий Матвеевич, к Ольге-киоскерше теперь уволокся. Точно! — поспешно заверил он, заметив, как Михаил и Колыбаев вдруг уставились на него.
— Подь ты, разыгрывать-то!.. — Колыбаев попробовал выразить безразличие на лице, но не выдержал. — Он же это... еле ходит. Зажирел, как гусак в мешке, а Ольге много ли больше двадцати?
— Дурак старый! — Азоркин поднялся, хохотнул. — Хмельной, целоваться ко мне лез: «Петя, Петруша, не ты, так умер бы, не познав счастья, — подражая голосу Головкина, гундосил Азоркин. — Вроде кто-то ожил другой во мне». Тьфу! Противно глядеть на него. И Ольга — умру, дескать, без тебя. Это Ольга-то умрет без него, жирного борова. Ну, сдохнуть мне! Я же Ольгу передал ему со всеми рекомендациями и правилами эксплуатации, — с циничным наслаждением пояснил он. — Она мне то же самое говорила...
— Закрой помойку! — оборвал Михаил Азоркина. — Захлебнешься когда-нибудь…
— А ты...
Комок породы с килограмм скользнул из-за верхняка, долбанул Азоркина по хребту, тот аж подпрыгнул, сгорбившись, зашипел от боли по-кошачьи.
— Ха-ха, — тряхнуло смехом бочку-торс Колыбаева. — Яшка знает, за что бить!..
Азоркин выворачивал руку, силясь достать ушибленное место, сипел:
— Завидуешь, Миша! Всю жизнь один хлеб ешь, вот и завидуешь...
— Оскотинился ты до крайности! — Михаил подтягивал зубки на рабочем органе комбайна, даванул на ключ, тот сорвался, козанки сжатого кулака встретились с литым зубком; боль прошла по костям в плечо, стеклась в сердце, озлобляя его и обессиливая. — Девку-недоростка растлил и хвалишься... Браконьер!
Работать он старался спокойно, боли напарникам не выказал, только до ломоты сжал зубы да глаза за припухлостью век глубже упрятал.
— Чего браконьер? — Азоркин было улегся, но резко сел. — Она и недоростком была, вон, — стукнул по доске, — рудстойкой не свалить! — Повалился опять на доску, сказал мирно: — Нашел кого жалеть! Баб жалеть!..
Слова Михаила, видно, нисколько не задели Азоркина. Вид у него был сонливый, точно у кота, разогревшегося на печи. Подперев голову рукой, плавно изогнувшись так, что грудь и спину, будто коваными латами, облекало мышцами до тонкой поясницы, Азоркин цедил ленивый взгляд через полусмеженные ресницы и лениво говорил:
— Браконьер!.. Не со мной, так с другим... Ольга эта... Они такие, как перезрелые орехи, раскалываются. Самостоятельную-то не шибко... Жалел бы я их!
— Что ж, ни одна не придавила сердце-то, самостоятельная?.. — с робкой надеждой попытал Михаил.
— Нет, ни одна. Да мне она никогда не встречалась, самостоятельная-то. — Азоркин слабо пожал плечом: дескать, что делать, если все такие.
Монотонно, словно заведенный, Колыбаев точил брусочком топор. «Черт бы с тобой — живи, как хочется, — думал об Азоркине Михаил. — Только Ольгу-то развратил и Валерку теперь развращает...»
Одно удивляло: почему тянет к нему женщин? Красивый ветродуй, лишь бы сегодня прожить, а завтра хоть солнце не всходи — этим, что ли, привлекает их к себе? Мою Валентину хотя бы взять — замужняя, двухдетная, а тоже тянет заглянуть в чужой огород, хоть и знает, что Азоркину еще ни одна не нужна была на всю жизнь.
Всякий раз, когда Азоркин приходил к Свешневым, то вроде в шутку обнимался и целовался с Валентиной в прихожей, и потом в комнате как-то все оказывался рядом с ней, шутил с намеками, грубо; то за руку ее возьмет, то приобнимет, а глаза похотливые, откровенные. «Да ладно тебе, да отстань, — притворно возмущалась Валентина, но Михаил видел, как она слабела вся, щеки ее пылали, глаза туманились. — Миша, защити...» И все посмеивались. И Михаил поддерживал смех, стараясь изо всех сил показать, что все здесь чисто, невинно. Смех получался искусственным, потому что ему было стыдно за Азоркина с Валентиной и за себя тоже. Особенно было стыдно за Валентину. Не замуж же она за него собиралась, замужняя и детная, да еще зная о дурной славе Азоркина.
Азоркин вызывал Михаила покурить, и нарочито в подробностях рассказывал о своих последних любовных потехах, но вдруг менялся в момент, обмякал.
— Не знаю, Миша, — грустил Азоркин голосом. — Я им во, — показывал большим пальцем кончик мизинца, — ни на столько ни одной не верю...
— Да-а, тяжело тебе, — хитро сочувствовал Михаил. — И я помочь ничем не могу, чтоб они все тебе верность сохраняли, Тут, знаешь, что? — отламывал от куста сирени ветку. — Ты замок каменный выстрой. Так? Тут — ров, железные двери. Евнухов найми. Ну, как эти... ханы. Правда, власти не позволят... и деньги опять же... У тебя своя-то семья в каком домишке?..
— Смеешься?..
— Горе твое смешное. — Михаил резко отбрасывал ветку. — Не мужское горе! Плакал бы с тобой...
— И заплачешь, — обещал Азоркин. — Вон она, — кивал головой в сторону веранды, откуда поглядывала на них Валентина. — Плывет, что масло на сковородке. Веришь ей?
— Твое-то дело, верю, не верю? У тебя жена есть. Вот и испытывай на ней свою веру.
— Испытывай! Может, я ночью в шахту, а она... — Азоркин сплевывал, делая обиженное лицо, замолкал.
— Сколько же ты своим ядом жизней потравил!.. — На бледном лице Михаила проступал морковный румянец, так, казалось, униженно звучали эти слова, точно пощады просил у Азоркина, дескать, не трогай мою семью. И Азоркин так, должно быть, его и понимал, носогубные складки потягивал то ли в сожалеющей, то ли в презрительной улыбке.
— Боишься?..
«Боюсь», — хотелось Михаилу признаться. На вопрос Азоркина не отвечал, сам спрашивал:
— Семьи рушишь... Детей-то чужих не жалко? Да и свои есть...