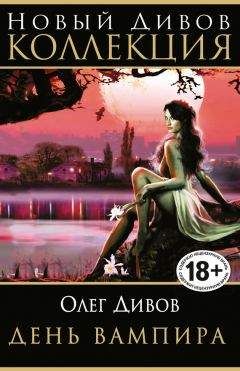Михаил Златогоров - Вышли в жизнь романтики
Тюфяков толкнул дверь.
В оранжевом свете лампы, затененной абажуром, он увидел поднятую крышку радиолы, крутящуюся пластинку.
На грязной, засыпанной папиросным пеплом скатерти темнело в стаканах недопитое вино, валялась апельсиновая кожура, конфетные обертки.
Визгливо звучал бойкий мотивчик.
Тюфяков не узнал сначала Игоря: тот сидел на тахте в полутьме. Субчик танцевал с Руфой.
Тюфяков увидел закинутые на жирные плечи Субчика тонкие и смуглые, прелестные Руфины руки, которые так часто снились ему, и вдруг рванулся к танцующей паре.
— Что ты хулиганишь? — вскочил Игорь.
Тюфяков только двинул его плечом, потом схватил Субчика за воротник.
Игорь бросился на улицу, стал звать на помощь. Перепуганный Померанец с криком: «Хам! Негодяй!» — вырвался из рук Тюфякова и шмыгнул в коридор.
И тут случилось невероятное.
Обезумевший от обиды и негодования Тюфяков стал душить Руфу.
Подоспевшие люди схватили его.
* * *В день, когда в поселке Металлическом был суд над Тюфяковым, злой ледяной ветер сдул с земли снег, обнажил окаменевшую грязь. Мороз щипал щеки, затруднял дыхание. Наружные стены трехэтажного здания стали седыми от инея.
Ася, отпросившись у прораба, с утра уехала в Металлический. Невесело работалось в этот день бригаде.
— Надо же было Анатолию, — вздыхала Ядя, двигая по стене полутерком. — Хлопец такой самостоятельный.
— Мать его жалко, — сказала Нелли. — Сын по комсомольской путевке поехал, гордилась, наверно… А теперь, как узнает…
— А меня за Асю обида берет, — заявила Майка. — Убивается, жалеет дурака, а он только о той вертихвостке и думал.
— Не говори, Анатолий нашу Асю уважает, очень уважает, — возразила Нелли.
— У-ва-жа-ет! — насмешливо протянула Майка. — Пусть бы лучше совсем не уважал. Я же видела… Заведет с Асей разговор, советуется, а тут Руфа пальчиком поманит, и он уже про Асю совсем забыл. А «мамка» ночью плачет. Я же видела…
— Постойте! — воскликнула пораженная Юля. — Значит, Ася была в него влюблена… в Анатолия?
Ядя и Нелли промолчали, а Майка буркнула:
— С луны свалилась!
Никто не произносил имени Игоря, и Юля поняла: из-за нее. Как будто и она вместе с Игорем виновата в том, что Тюфяков попал в беду.
А может, и правда виновата. Виновата и перед Тюфяковым и перед Асей… Восхищалась ею, расхваливала в письмах домой, а чем жила «мамка» душевно, чем мучилась, об этом не догадывалась. Ася! Девушка с Невской заставы. Всю блокаду перенесла. «Кулеш варили из отработанных ткацких гонков, а ткань давали», — вспомнилось Юле, как рассказывала Ася Егорова о людях фабрики «Рабочий», о жестокой зиме 1942 года. Асе тогда было десять лет. Мать ее — ткачиха — научила дочку своей профессии. От матери унаследовала суровую правдивость, прямоту, ясность… «Для государства есть необходимость, — снова вспомнились Юле Асины слова, на этот раз не о прошлом, а о сегодняшнем, о том, почему решила поехать на Север. — Вот я и подумала: для меня на фабрике замену найдут, а там, на Северострое, наверно, каждая пара рук дорога».
Опадавший с мастерков раствор застывал на холоде твердыми комьями. Еле-еле выработали дневную норму. После смены не пошли в клуб — там были танцы, — сидели дома и ждали Асю.
Вернулась она из Металлического вечером. Развязывая платок, еще с порога сердито бросила:
— Трещины по стенам пошли. Ходила, смотрела…
— Раствор застывал, Асенька, — объяснила Ядя.
— Так сказали бы Тамаре Георгиевне. Коксушки могли поставить! Надейся на вас…
Егорова раздевалась, умывалась, потом пила чай, словно не замечая нетерпения подруг. И Юля подумала: «Может, все кончилось благополучно, Руфа простила Анатолия, он освобожден?» Но Ася рассказала, что народный суд приговорил Тюфякова к году тюрьмы. Руфа на суде заявила, что Анатолий уже давно ее преследовал, еще с Ленинграда. Она отрицала, что обещала выйти за него замуж. Свидетели — Померанец, Игорь — подтвердили ее слова. Ася попросилась в свидетели и сказала суду, что Тюфяков был передовым бригадиром и за ним никто и никогда не знал недостойного поступка.
Тюфяков даже не пытался себя защитить. Пока Руфа давала показания, он не глядел на нее и лишь в конце медленно повернул голову:
— Виноват я, товарищи судьи, виноват: гадину за человека принял.
* * *Много набилось молодежи в комнату комсомольского комитета, когда собрались обсудить уроки всей этой истории. Землекопы из бригады Тюфякова требовали, чтобы у Руфы отняли комсомольскую путевку и отчислили ее со стройки.
Юля сидела на крайней скамейке у выхода, рядом с Ядей, Женей Зюзиным и Майкой.
Открыл заседание Игорь, но не успел он произнести вступительной фразы, как Женя Зюзин попросил слова «в порядке ведения»:
— Предлагаю, чтобы заседание вела Егорова.
— Если мне не доверяете… — Игорь оглянулся на сидевшего в уголке Прохора Семеновича Лойко: парторг часто бывал на комсомольских собраниях, — я вообще могу уйти…
— Ты не грози, — спокойно возразил Женя. — Сегодняшний вопрос и тебя касается, так что посиди послушай.
— Правильно! — откликнулись комсомольцы.
— Ася, садись за председателя!
Видимо, Игорь ожидал, что парторг вмешается и не допустит такого умаления его, Игоря, секретарской власти, но Прохор Семенович только покашлял в сухую ладонь и ничего не сказал.
Ася Егорова заняла председательское место и попросила Руфу дать объяснения своему поведению.
— Какие объяснения? — Руфа повела плечиками. — Суд вынес решение. Что вам еще нужно?
— Ты не ломайся, а расскажи все но-честному.
Руфа сделала большие глаза:
— Или я вас не понимаю, или вы не хотите понять меня.
В рядах зашумели:
— Артистка…
— Она, видишь ли, одолжение сделала, что пришла сюда!
Тогда Ася без обиняков сказала, что возмущает комсомольцев в поведении Руфы.
— Это мое личное дело! — перебила Руфа. — Вас это не касается!
— Личное?! А вот из-за тебя человек попал в тюрьму — это нас тоже не касается?! — Голос Аси наливался и креп: — Есть обыватели, пошляки, есть люди, которые клевещут на нас, новоселов… А Руфа даст им пищу для сплетен. Хулиганы тоже есть, и больно, что хороший наш товарищ Анатолий Тюфяков попал на скамью подсудимых как хулиган. Я его не защищаю, но и Руфе мы должны сегодня сказать: не теряй чести!
— Нечего мне мораль читать! Не маленькая!
Гневный шумок прокатился по комнате.
— Большая, взрослая! А стыда нет! — Лицо Аси побледнело от сдерживаемого раздражения. — Мы знаем: девушка ты культурная, книжки читаешь, талант у тебя к пению. Почему же лезешь в грязь? Сама вымаралась и коллектив хочешь замарать.
Руфа достала платочек, нос и веки у нее покраснели:
— Ну, что вам от меня нужно? Хотите забрать путевку — берите, пожалуйста!
В наступившей тишине слышались ее всхлипывания. Майка проворчала:
— Крокодиловы слезы…
Поднялся Игорь, сказал примирительным тоном:
— Ты должна осознать, Руфа, твои стиль поведения…
— Какой стиль? Ты, значит, тоже? — Слезы быстро высохли в ее зеленоватых глазах. — Товарищи, если вы требуете, я все скажу. — Руфа метнула на Игоря быстрый злобный взгляд. — Наш секретарь комитета. Вот он меня обвиняет, товарищ Савич! А сам? Я ему поверила… Он уговорил меня. Он жил со мной, как с женой…
Юля окаменела. Боже мои, опять эта улыбочка!.. Эта жалкая, заискивающая улыбочка, с которой он оправдывался перед ней в этой же комнате месяц назад. Дура, дура! Дала себя обмануть, поверила ему в тот вечер, когда туман застилал сопки, не отвела губ, не оттолкнула настойчивых рук, а он, может, назавтра шептал нежные слова и обнимался с другой… Какая гнусность, какая ложь!
Что-то рвалось внутри, ломалось. Может, и все в жизни ложь, все обманывают… Никакой любви нет. Может, прав Райский из «Обрыва»: небо не сине, трава не зелена… Это только иллюзии. И романтики никакой нет, и поэзии…
Юля уже не слышала, не разбирала, о чем нагловатым голоском говорила Руфа, почему на сбивчивые фразы Игоря собрание отвечало неодобрительным гулом. Все стало безразлично. Голова клонилась все ниже и ниже. Вот совсем близко, почти у глаз, чей-то ботинок, клочок бумаги…
— Буратино, что с тобой? — Ядя испуганно схватила ее за плечи.
— Ничего… Голова что-то разболелась.
— Выйди на воздух… Совсем зеленая стала!
Дома Юля легла на конку и отвернулась к стене. Еще никогда не было так мерзко на душе. Все можно простить человеку: ошибку, заблуждение, даже допущенную по отношению к тебе несправедливость. Нельзя прощать одного — подлости.
Глава десятая
ШУРШИТ ПОЗЕМКА
Для Игоря случившееся не явилось катастрофой. Испуг, досада — вот чувства, которые испытывал он на собрании.