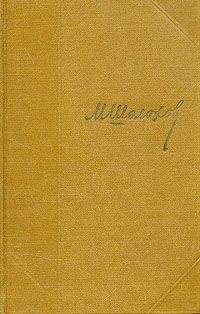Александр Серафимович - Том 7. Рассказы, очерки. Статьи. Письма
– A я скажу наоборот: может, по всему округу. А может, и дальше. И это мы должны учесть и поставить в известность округ.
– Дай мне.
– Ну!
– Ведь у нас же есть устав ТОЗов, – сказали усики, сдвинув молодые брови, – так и надо им устав растолковать, сорганизовать. Ишь ты, сами пришли…
– Пришли-то пришли… – опять угрюмо из угла, – да…
– Я тебе не давал слова, – сердито отмахнулся секретарь и подумал: «Чертов бирюк! Спит и видит себя секретарем».
Серый камлотовый пиджак зашевелился, стал еще длиннее.
– Я так думаю: крестьянство надо обязательно сорганизовать, раз сами просят. Ведь сами идут, чего же тут думать! Я кончил.
Постояло молчание. Секретарь, не подымая головы, сказал:
– Товарищ Лапин!
Заскрипел стул, и из угла глухо и коряво полезло бревно:
– Тут вот, конешно, говорится, крестьянство само пришло, просится, партия чтобы сорганизовала. Это, конешно, приятно, можно, чай, жить. Ну, только надо пощупать.
«Курей щупают да баб молодых», – сердито подумал секретарь.
– …пощупать, какие такие это мужики приходили?
Насторожились.
«Чертов сыч! Непременно чего-нибудь воткнет!» – зло тряхнул головой секретарь.
– Они, мужики, разного складу. Есть…
– Меченые и немеченые, – сказал с усиками, усмешливо взглянув на секретаря.
– …разного складу, – так же налезая глухим бревном. – У одного две пары быков да лошадь, у другого пара плугов да молотилка, а у энтого ребятишки, жена, старики да сам-девять.
«Этакое зло!» – блеснул серыми глазами секретарь и бросил:
– Ты нас не учи. Без тебя знаем – классовое расслоение в деревне.
А тот продолжал так же глухо и ровно, как будто был в комнате один:
– …кого же будем организовывать: кулаков да очень зажиточного середняка? Бедняка-то они к себе и близко не подпустят, – ему не с чем к ним идти.
Тогда все зашумели, как шмели, перебивая и держа на него зло.
– Так что ж, по-твоему: руки сложить да у моря погоду ждать?
– Ежели ты не будешь организовывать мужика, так он сам сорганизуется, да так сорганизуется, что небу жарко станет. А что кулак, так «волков бояться, в лес не ходить».
– А как дров наломаешь!
– А партия на что?
– Товарищи, товарищи! – вылезая из галдежа, стучал карандашом секретарь. «Чертова холера этот Лупоглазов! – сердито мотал он хохлом. – Выгоню из коммунхоза, – до сих пор звонка не достал. Какое это заседание без звонка!»
Постановили: принять все меры к организации супряг и ТОЗов в крестьянстве, не допуская кулака, и немедленно выехать всем в район агитировать за коллективное хозяйствование.
СобраниеВысокий, с прямой спиной, Боков по-военному широко шагал, взбивая пыль.
Месяца два его по состоянию здоровья демобилизовали.
Приехал в крайком. Дали путевку в округ. Округ – сюда. Здесь стал председателем совета этого городишка.
Он шагал и чувствовал себя как на маневрах. Надо взять в лоб или обойти, ударить с тылу, сломить. Надо внести плановость, как вносится плановость в маневрирование.
На улице перед школой у подъезда, у ворот толпятся крестьяне, дымят махоркой, сидят на корточках вдоль забора.
И Боков внутренне подобрался, прямой и высокий, в серой шинели и в буденовке.
– Эй, Боков, живой?
Быстро катившийся тарантас останавливается. Лошади мотают головами. Боков подходит, здоровается с обоими,
– Куда?
Человек без усиков, в пальто, ладный и в плечах раздался, без шапки подставляет веселый хохол погожему сентябрьскому солнцу. Он торопливо пожимает руку Бокова.
– В район еду. Всех разослал, теперь сам. В райкоме за себя Петунина вот оставляю, – мотнул закачавшимся хохолком на сидевшего рядом с татарскими усиками скуластого, с косыми черненькими бровями, товарища, – и искорки внимательной наблюдательности в темно-коричневых глазах.
– Давно с курсов, Петунин?
Тот сказал запоминающимся голосом:
– Вчера только.
– Из ячейки у тебя кто будет? – спросил хохолок.
– Афонин обещал.
– Так ты ему, товарищ Боков, передай, чтобы все особенности собрания – ну, настроение крестьян, как будут принимать цифры и, главное, как пойдет дело насчет колхозов, – чтобы в райком сводкой. Да и ты приходи, расскажешь. Ну, так крой, проворачивай.
– Ладно!
Боков подавил руки обоим и пошел. Хохолок тронул кучера в спину:
– Давай, погоняй, дядя Осип. Э-эх, время-то как утекает… Погоняй, погоняй, дядя Осип!
Звеня и дребезжа в облаке пыли, тарантас покатился…
…В школе битком. Сквозь непролазную махорочную сизость смутны бороды, шапки, заветренные, употелые лица. Тускло блестят глаза и все на Бокова, все блестят на Бокова.
Чувство борьбы, чувство острого внутреннего напряжения, – то чувство, которое овладевало им на маневрах, наливалось теперь. На маневрах ведь товарищи же эти синие, ведь это из второй роты. Вон Рябов – с ним же вместе на курсах были…
«Да, товарищи-то товарищи, но когда ползешь, извиваясь и обдирая лицо по сухой колкой земле, по иссохшим цепучим травам, ползешь с крепко зажатой винтовкой, тут одна неотступная мысль: обойти, ударить с тылу, захватить. И эти сквозь дальние кусты мелькающие синие, это уже не товарищи, это – враги. Нет, он не ходил с ними на политчас, не был с ними на курсах, тут кто кого».
И сейчас сотни блестящих вражьих глаз… Или дружеских, ждущих? Ну да, он – крестьянский сын, кость от кости их. Дышал одной тьмой с ними, одним бессилием. А теперь он пришел бороться с ними, плечо в плечо бороться с их тьмой, с неодолимостью веков, со всем, во что они неуемно вросли изувеченными корнями.
Пришел бороться с ними. Прислала партия, что открыла ему глаза. Прислала Красная Армия, что переделала его в неузнаваемого человека.
– …собрание открытым…
Все тот же непроницаемо сизый дым. Все тот же не потухающий сквозь него блеск глаз.
«Эко черт этот Афонька – не пришел!»
И началось привычное, уже вросшее в общественный обиход:
– …повестка… Есть возражения?.. Нет…
И он по кустам, по иссохшей цапастой траве двинулся на них. Они отделялись неугадываемым молчанием, блеском глаз.
– …Ежели ты похеришь межи… я. сно: аль нет?..
– А ты запахай межи, да это тебе не одна га набежит – вот тебе сотня-другая центнеров пшеницы. Понятно? А то суслики плодятся, да сорняк с межей прет, все поле заражает. С двух концов себя жрете – площадь теряете, вредители пожирают… Ясно?..
Для него это было поразительно ясно. А они? А они дремуче молчали. В слоистом дыму блестели глаза. Он напирал, и напряженность стала переливаться в раздражение. Враги?.. Он сдвинул буденовку и вытер косо ребром пот.
– …опять взять тягло: у одного – две пары быков, у другого – ледащая лошаденка, а у энтова и нет ничего. Ясно? А земля требует, чтоб ее топтали здоровые бычиные или лошадиные ноги. Тогда она… Ясно?.. А бедняк, не виноват же он за свою бедность… Понятно?..
В дыму смутны бороды, шапки, кафтаны. Это они и без него отлично знают, – сам крестьянский сын, сам деревенский. И если б был на их месте, так же бы в сизом дыму молчал.
Он опять вытер пот, раздраженно оглядел их и… между скамьями живой и веселый в черной барашковой, востряком кверху сдвинутой на затылок шапке пробирался в президиум, волнуя густой слоистый дым, Афонин.
У Бокова радостно заиграло: в поле с перелесками неожиданно в живом движении показалась рота и оживленно рассыпалась в общую цепь.
Боков победно поднял голос и стал напирать, а ноздри уверенно раздулись.
– Али вам не надоела канитель эта? Вся жизнь ваша на краю. Ясно? Неурожай, – стало быть, оборвался…
Неожиданно заволновался доверху заполнявший сизый дым. Заволновались в нем бороды, шапки, лица, кафтаны. И одинокий голос:
– Хоша и неурожай случался, а завсегда с хлебом были.
И дружные голоса взмыли:
– Ну как же: в скирдах, бывалыча, годами стоял!
– Неурожаи были, а деды наши жили, не жалились!..
А он, не слушая, напирал:
– Пожар, – стало быть, по миру…
А оттуда так же дружно:
– А иде же зараз живем? В избах же и с хозяйством, а мало ли горели?
Афонин нагнулся под стол, крепко ущемил нос, сморкнулся, растер ногой.
– …Сынов отделил – разор…
А оттуда густо и вызывающе:
– Слава богу, по миру не ходили, а ноне босые да голые.
Повеяло враждебностью, затаенной и неподатливой.
И весь сизо волнующийся дым до самого потолка наполнился упрямым гулом, на котором вырывалось:
– Ты не сули, а дай!..
– Ня нада журавля, с синицей проживем!..
– Как жили – знаем, а как будем жить – не знаем!..
Боков, не стерпев, снял с себя буденовку и опять надел, едва задавил в себе крутую мать. Вдруг особенно остро почувствовал себя стороной: там, на скамьях, – враги. Вторая рота извилистой цепью пошла на синеющих. Он их ненавидел и с ненавистью сказал: