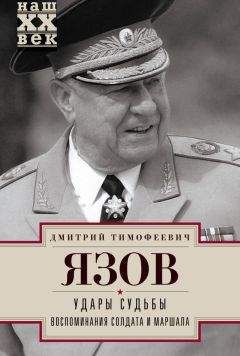Николай Горбачев - Ударная сила
К вечеру прибыли на какую-то узловую станцию, забитую эшелонами с беженцами: пропускали к фронту, не задерживая, армейские части; в вагонах красноармейцы, лошади, на платформах пушки, кухни, повозки...
Дымные, гаревые сумерки жиденько затянули закопченный, когда-то беленый кирпичный вокзальчик, депо и пристанционный, сморенный дневным зноем городок. Валя все это увидела, когда отправилась с чайником — добыть кипятку или просто воды. Беженцы из эшелонов — женщины и дети — рыскали, как и Валя, по всей станции тоже в поисках воды; у будки с надписью «Кипяток» возникла давка, и Валя вслед за другими побежала к дальнему гидранту и там в конце концов набрала воды. Возвращалась, огибая эшелоны, пролезала под вагонами, думая, что теперь напоит мать и ту беременную женщину. Противогаз в матерчатой сумке увесисто бил по бедру. Все вокруг казалось неживым, наполненным тягостным предчувствием; свет — предвечерний, рассеянный, сквозь дымно-гаревую завесу красил все в беспокойно-призрачный, желтоватый цвет. Этот цвет как бы пронизывал все окружающее — вагоны запрудивших станцию эшелонов, водокачку с островерхой крышей, толстые обшарпанные стены вокзала и даже людей, густо сновавших по всей станции.
Ей оставалось пересечь еще два пути, на которых стояли чужие эшелоны, и тут, мгновенно нарастая и все поглощая, возник свистящий, металлический рев. Она успела заметить, как копотную мглу с воем прорезали самолеты, и вслед за этим — грохоты взрывов, пулеметная стрельба, плач, стон слились в одно. Она бросилась под вагоны, расплескивая на мазутный гравий воду из чайника, и думала только об одном — добежать до вагона, к матери, хотя там-то, в конце эшелона, у металлического мостика, переброшенного над путями, над вагонами, все окуталось пылью, черным нефтяным дымом.
Поднырнув под вагонами, ртом, по-рыбьему, глотая сухой, прокаленный воздух, напитавшийся рвотной толовой и бензиновой вонью, она выскочила в узкий, как ущелье, проем между двумя эшелонами и увидела в пыльной заволочи — началась паника. Из распахнутых вагонов выскакивали люди — прыгали, сталкивались, кто-то кидал узлы, чемоданы, иные передавали детей, мешали в сутолоке друг другу, а самолеты проносились с вибрирующим воем, — рвались бомбы, стегали пулеметные очереди, и в этих противоестественных звуках тонули ругань, плач, крики, стоны людей...
Валя продиралась сквозь человеческую мельтешащую запруду вперед, не замечая, что сама всхлипывала, размазывала по худым щекам слезы; поминутно наскакивала на людей, метавшихся у вагонов, ее толкали, какие-то узлы, падая, больно задевали ее.
На какое-то время, когда она уже почти была у своего вагона, гаревая заволочь впереди прорядилась, самолеты, кажется, теперь бомбили позади — водокачку и депо, там грохотало и рвалось, галечная земля под ногами вздрагивала, и в той прореженной, осевшей гари Валя отметила: хвостовых вагонов не было, громоздились, курясь, груды ломаного, покореженного металла и досок, а дальше, за перекидным мостком, черный, смоляной дым, раздуваясь, вставал в небо гигантским конусом, — горели цистерны. Валя увидела и свой вагон с натыканными вокруг дверного проема завялыми ветками; несколько женщин, сгрудившись плотно, кучкой, снимали ту самую беременную, уложив ее на доски, как на носилки, — что-то красное, окровавленное, будто пламя, мелькнуло там. Среди них и мать: строгая, под мужчину прическа, коверкотовая гимнастерка. Чайник, который Валя сжимала до закостенелости в пальцах, был чужой, той, беременной. Переваливаясь под тяжестью узла, мимо пронеслась простоволосая, с безумными навыкате, белесыми глазами, полная, как тумба, баба, причитая: «Ой, да что же, господи, делается? Погибель и роды в одночасье...»
И тут, когда Вале казалось, что она сейчас окажется возле своего вагона, вот продерется только последние метры сквозь толпу, страшной силы удар расколол небо, воздух и этот желтоватый свет. Валю подхватило, точно невесомую пушинку, швырнуло, ударило обо что-то твердое, и, теряя сознание, она не почувствовала боли, лишь искрящаяся, багрово-красная вспышка возникла перед глазами и погасла. Валя не знала, что произошло, не могла видеть, что на том месте, где был их вагон, куда она стремилась, — взметнулся огненный, слепящий султан...
Очнулась она и словно бы стершимся сознанием старалась понять, где она. Стены, кровати и меж ними тесно — топчаны, раскладушки; голова ее забинтована, кругом бело-серое, застиранное белье. Валя с трудом повернула будто чугунную, тяжелую и вместе звеняще-пустую голову и внезапно — взгляд во взгляд — натолкнулась на словно бы выцветшие глаза, зрачки еле различались, и, сразу признав ту, с узлом вдоль эшелона промчавшуюся бабу, почувствовала, как голову заломила боль.
— Ожила! Два дня в бреду, господи, — отдаленно услышала Валя голос бабы. — Все за эвон ту сумку держалась, как с червонцами, — не отдавала...
Боль в голове не утихала, и, боясь, что опять может впасть в беспамятство, и одновременно испытывая еще неосознанное беспокойство, Валя спросила совсем тихо, безголосо, хотя самой ей представлялось — говорила громко:
— Что с мамой?.. С той беременной женщиной? Где мама?
— Беременная? Энта, что разрожалась? Мать, говоришь?
— Нет, нет... мать другая...
— Побили ту... Побили многих теми бомбами. И, сказывали, какую-то военную побили, а твоя, может, и жива... И мне ногу секануло...
Валя дернулась на подушке: «М-а-а!..» Ломотная, нестерпимая боль прорезала от головы до ног, перед глазами вновь беспорядочным вихрем заметались круги, и Валя рухнула в знакомую черную пропасть...
А дальше, за этими картинами, словно бы обрывалось время и возникала незримая черта, переступать которую она не хотела, — боялась. Война... Черта эта была ее внутренним пределом, запретом, своего рода табу, и силу этого запрета Валя со временем чувствовала все крепче. Но вместе с тем, чувствуя, как прочнее закрывалась, запечатывалась в душе та ее жизнь, связанная с войной, она сознавала: ей труднее и труднее становилось нести этот груз. И когда уже было совсем невмоготу, когда тяжесть накапливалась, давила, тогда приходило вот то страшное, перед которым, как ни крепилась, в конце концов пасовала, сдавалась. И тогда наступало облегчение. Но наступало на короткий час: после каждого срыва ощущение усталости брало жестче и тоскливее.
Вот и теперь, очнувшись за столом, она испуганно подумала, что грядет то ее состояние, его приближение она чувствовала. Но когда оно явится, она не знает, она еще будет бороться, она еще...
И, словно бы боясь обступивших сумерек, прихода вечера, она торопливо поднялась, включила полный свет; он вспыхнул в стеклянной люстре, откинул темень.
2
В разгар вечера, когда за длинным столом, накрытым белыми простынями, остались лишь рассеянные группки — большинство офицеров, их жены танцевали на свободном пространстве у клубной сцены, тут по очереди то включали проигрыватель, то на табуретку садился капитан Овчинников, растягивал на коленях «хохнеровский» с красными мехами аккордеон, — Фурашов поднялся, сказал Вале:
— Пойду пройдусь по городку.
Валя поняла его: «Мол, второй день майские праздники — и все ли там в порядке, за пределами клуба?» Она была в хорошем настроении, потому что за столом как-то сразу, с самого начала возникла веселая, живая атмосфера, много шутили и каламбурили. Алексей тоже был в добром настрое, в ударе, он раза три за все застолье вставал, говорил с подъемом, за столом стихали гул и разговоры, слушали его со вниманием, звонко аплодировали. Все же был один омрачающий момент, когда жена капитана Овчинникова провозгласила тост за то, чтобы «командиры, наши мужья, думая о сложной, новой технике, не забывали о своем тыле, о семьях». Женщины бурно поддержали ее. Чокнувшись с Фурашовым, Мореновым, Савиновым, чокнувшись с ней, Валей, — возбужденная, вся — пружина, — Овчинникова выпила рюмку до дна, крикнула:
— Вот за это — полную!
Валя отставила свою рюмку, ей показалось, что этого никто не заметил, но тотчас сбоку услышала:
— Валентина Ивановна, а что же вы?..
Валя тогда, теряясь, поспешно проронила: «Не пью» и почувствовала, как невольно покраснела.
Сейчас, забыв о том мелком инциденте, она была увлечена разговором с женой замполита Моренова и на слова мужа, что он пройдется по городку, согласно кивнула.
Вход в клуб со стороны казармы по случаю офицерского вечера закрыли, действовал лишь служебный вход, и Фурашов попал в него, обойдя сцену. Вчера, Первого мая, в честь праздника на сцене бушевала самодеятельность — солдатская и подшефников, — народу битком набито: не только солдаты, офицеры, но и жены, дети, Маринка и Катя Фурашовы тоже были на концерте. А теперь клуб освободили для офицерского вечера: простенькие деревянные кресла горой возвышались в дальнем углу зала, загромождали проходы у сцены.