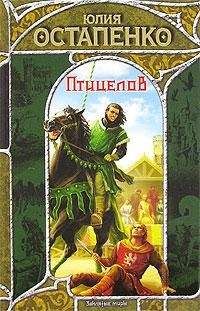Валентин Тублин - Доказательства
Говорил он это вслух или только хотел сказать? Как бы то ни было, он высказался. Ему-то повезло: он нашел своего Робина.
А ведь могло статься, что он родился бы художником — как Татищев. Художник — тот вообще не может ничего доказать, будь он хоть семи пядей во лбу. Гений он или эпигон — решают другие. Какими критериями они пользуются — неизвестно. Импрессионистов сначала освистали, потом вознесли; Модильяни умер в нищете, теперь он стоит миллионы. Где авторитеты, что смеялись над ними? Над кем они смеются сегодня, каким мерилом мерят, и кто они, эти судьи? У них фальшивые бороды и накладные носы, они анонимны и всесильны, они изрекают от имени народа: «Массам непонятно, что вы хотели этим сказать», — а иногда они вообще ничего не говорят. Три больше двух или меньше? Неизвестно. Пятнадцать меньше единицы или равно ей? Все может быть. Все может быть, и все может случиться в мире. Желающему дождаться истины остается только уповать на время. Время, подобно природе, тоже создает свой мир, если не идеальный, то близкий к этому, бумажные знаки достоинства там не имеют хождения, там рассыпаются в прах звания и должности, происхождение и титулы, там остаются лишь дела, достойные потомства, и висельник по имени Франсуа Вийон пьет там нектар бессмертия за одним столом с господином министром Гете и кавалером Глюком.
Вот, значит, в чем дело. В том, чтобы определить свою пробу еще до того, как ты, отдавшись во власть времени, получишь не подлежащую пересмотру оценку.
Так Сычев и сказал. А Татищев ответил, что все это попахивает обыкновенным честолюбием — только и всего. Он, Сычев, хочет забежать вперед и узнать свою оценку еще до того, как она будет окончательно выставлена, если он понял правильно.
— И вообще, — заметил Татищев философски, — скольких честолюбцев я ни встречал, все это были люди, не уверенные в себе, а ты разве таков?
Таков, сказал Сычев, — что ж с того? Но в твоем наблюдении есть и нечто поучительное. Недовольство собой — разве не это двигатель человеческого прогресса? А может быть, это и есть вечный двигатель? Тот, кто доволен собой, не ищет совершенства, такие люди живут в ладу с самими собой, они не ищут никаких доказательств, им все равно, плоская земля или квадратная, им и в голову не придет задуматься, чему равна сумма квадратов катетов, — зачем им нужны эти самые катеты, они бесплоднее смоковницы… Я не уверен в себе. А с чего бы это мне быть уверенным? Чем это таким наградил меня господь бог? Тебе легко говорить, тебе-то не надо задавать вопрос — «зачем я?» — и Сычев кивнул на картон, — с тобой все ясно. Со мной — никогда не было ясно. Зачем я? К чему я призван? Чего я стою? Я должен это понять рано или поздно. Отсюда — все. Отсюда — честолюбие: честолюбие возникает по ходу дела: сначала ты просто борешься за что-то, ты просто хочешь доказать себе, что способен сделать это, просто способен, потом ты не замечаешь, как этого становится мало…
Татищев заметил с сомнением:
— Мне кажется, что ты сам не знаешь, толком, чего ты хочешь. Поэтому ты хочешь всего, а это невозможно.
Сычев ответил:
— Лишь желая невозможного можно приблизиться к достижению возможного, того же, что легко достижимо, не стоит и желать. — И еще сказал он: — Я хочу узнать, на что я способен. Я хочу узнать, чего я стою, истинную свою цену. Узнать ее я могу только одним путем — дойти до предела.
— Ну, а дойдешь?
Тут-то Сычев и задумался. Действительно, что дальше? Постановка вопроса выглядела абсурдной: предел есть предел, но ведь и остановка есть, как прообраз смерти. Антитезой смерти является бессмертие, и ответ родился сам собой.
— А не стоило бы попытаться заглянуть за предел? — спросил он.
Это и было ответом.
9
Они вышли тем же путем, что и вошли, — через окно; но много, много часов протекло с тех пор, и многое осело в их памяти для будущих времен, когда это осевшее настоящее превратится в прошлое, давая пищу для раздумий. Это был необыкновенный день. С утра он был совсем обычным, но вот уже вечер, и они тихо идут друг подле друга, словно обремененные непосильной ношей — особенно непосильной эта ноша выглядит для Елены Николаевны, которая еле переставляет ноги. Постороннему человеку, мельком бросившему взгляд, могло бы прийти, пожалуй, в голову, что она пьяна. Она и была пьяна, да только не от вина, а от этого дня, который, словно диковинный подарок, неведомо за что поднесла ей судьба. Она была пьяна от хмельного карнавала уже давно забытых чувств, которые поднял со дна этот день, суматошный, беззаботный и веселый. Как тускло начался он для нее, с этой предстоявшей поездкой на место бывшей уже работы, расставаться с которой оказалось намного тяжелее, чем она могла бы предположить; расставаться для того, чтобы надолго осесть в замкнутую сферу довольства, где больше, чем стены материальные, на тебя со временем начинают давить иные, невидимые стены. В своей замужней жизни она забыла, что можно чувствовать себя такой свободной и делать что хочешь, не рискуя наткнуться взглядом на осуждающий взгляд или высоко поднятые брови. Этот дивный день, эти полные восхищения и желания — да, и желания тоже — мужские лица вокруг нее, взгляды, гладившие ее, как горячие ладони… Удивительно, что мы не знаем самих себя и тех глубин, что притаились до поры до времени; а может быть, мы сознательно взращиваем в нас самих ложное о себе мнение. Все, что происходило с ней сегодня, все решительно было полной противоположностью ее предшествующей жизни с четко очерченными границами добра и зла, порока и добродетели, с незыблемыми, неоспоримыми и настолько точно и четко очерченными границами, что немыслимой казалась сама мысль о возможности их нарушения.
И то, что она, так легко и просто перейдя эти границы, не почувствовала ничего, кроме глубокой и искренней радости и облегчающего ощущения свободы, — все это должное было ужаснуть её, навести на мысль о падении и раскаянии… Но вместо полагающегося ужаса была одна только радость, вместо раскаяния — смех, а вместо предполагаемых угрызений совести — легкомысленное восхищение — кем? — толпой мальчишек, которые, ошалев от ее присутствия, пели, кричали, несли всякий вздор и бросали на нее взгляды, полные неподдельного и недвусмысленного восхищения. Да, они восхищались ею как женщиной и ничуть не собирались это скрывать. «Правильная баба» — так, что ли, это называется? Она, Елена Николаевна, — «правильная баба»… Вздор и нахальство; не может быть, чтобы это не покоробило ее, не возмутило… Но приходится признать — нет, не возмутило, не покоробило. Более того, она, воспитанная с детства, с молочных зубов в отвращении к подобного рода несдержанным проявлениям человеческой натуры — низменным, как убеждали ее, проявлениям, — окунувшись в них, нисколько не находила их низменными. Они нравились ей своею искренностью — и как не похоже было все это на те многие и многие дни ее недолгой девичьей и весьма продолжительной замужней жизни, что были записаны в приходно-расходную книгу ее равномерного существования.
Но куда, в таком случае, должно было записать сегодняшний день — в приход? в расход? В расход — не раздумывая, сказала бы она вчера, и мысль о какой-то иной оценке показалась бы ей просто невозможной. В приход — поняла она сейчас, и только горькая мысль о возможной переоценке остальных ценностей замерцала где-то в глубине. Но что же это было, как не маленький, тихо катящийся себе камешек, с которого все и начинается?
Гут они оказались на скамейке, на первой же подвернувшейся им свободной скамейке в парке, и они сели, вернее будет сказать — они рухнули на нее в изнеможении, причины которого, правда, были вовсе различны.
— Ах, Робин, — сказала Елена Николаевна, — ах, мой милый. — Голова ее в этот же миг оказалась у Сычева на плече. Это, надо сказать, ввергло его в состояние некоего транса, выход из которого он нашел далеко не сразу; а пока он выслушал водопад обрушившихся на него признаний. — прекрасно все было, Робин, милый, как все это было прекрасно. Я полюбила всех их, твоих друзей, я полюбила их, они все такие смешные… и этот Демьяныч, о, он совсем хороший, вы смеетесь над ним, а он просто несчастный, он сказал мне — но это ужасная тайна, это секрет — его и вправду преследуют на улице женщины… ты смеешься? А я ему верю, он правду говорил. Но больше всех — нет, нет, не пытайся, тебе не угадать никогда, — знаешь, кто мне понравился больше всех, — Анатолий Иванович. Он прелестный мальчик, и ты знаешь, я убеждена в этом совершенно — у него никогда не было девушки. Вот ты снова смеешься, ты нехороший, таким я тебя не люблю… ну не смейся, пожалуйста. Ах, ты знаешь, я совсем, совсем пьяна. Я, наверное, ужасно порочна — ты это чувствуешь? Конечно, ты это почувствовал, разве ты притащил бы меня туда? Нет, ты не посмел бы. Ты знаешь, — сказала она совсем другим тоном и без всякого перехода, — ты знаешь, у нас никогда не бывает просто веселья. У нас принимают гостей… всегда принимают гостей. Никто к нам не приходит просто так, мы устраиваем прием, к нам всегда приглашаются люди с положением, и нет ни одного, чтобы просто так… просто… как здесь…