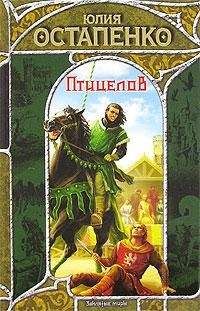Валентин Тублин - Доказательства
10
Узнавая других, не узнаем ли мы тем самым лишь самих себя, воплощенных в ином, более доступном для наблюдения обличье; так наклоняемся мы над водой, и ее меняющаяся поверхность показывает нам самих себя, но чуть измененных. Однако и этого небольшого изменения достаточно, чтобы наружу проступило все тщательно и тайно хранимое нами.
Но что мы храним в себе? Что за сокровища прячутся в тайниках нашей души — драгоценные камни или пыль и прах? И что такое наша память — не та, которой мы ежедневно пользуемся столь же утилитарно и просто, как ключом от почтового ящика, а та, другая, настоящая память, которая помнит действительно все, — что же она такое, как не тот самый тайник, где может оказаться что угодно и равным образом может и прославить и погубить? Есть ли на свете человек, который с чистою душою не побоялся бы извлечь из темноты что-то из того, что годы складывают в этот тайник? Есть ли кто, захотевший, чтобы его жизнь, такая, как она есть на самом деле и известная до конца лишь ему одному, — стала известна еще кому-то?
Таких, наверное, нет.
Ворошить старое — занятие малопочтенное, иногда оно просто опасно. Но оно необходимо для того, кто и в самом деле захотел бы осознать себя от самых истоков.
Что же мог ворошить, что мог узнать о самом себе Сычев? Уже утром, покинув землю обетованную и простившись на углу улицы Астронавтов с Еленой Николаевной (робкой запинающейся походкой входила она в подъезд собственного дома, и, уже исчезая из поля его зрения, дрогнули — словно вот сейчас вернется — ее узкие плечи под темно-вишневым жакетом… но нет, не вернулась), стоя недвижимо и глядя вслед глазами, слезившимися от напряжения, Сычев в то же время все еще был там, наверху, на широком и жестком ложе, сколоченном из досок, рядом с той, чьи плечи, не покрытые ничем, были рядом, под его руками. И ее слова, те, что заставили его вдруг решиться и вытащить из запретных до сих пор тайников разворошенное прошлое; слова, которые, подобно приказу о помиловании, возвращали человека к жизни. Были ли сказаны эти слова? Вернее, были они произнесены вслух, или это был один из тех случаев, когда ухо улавливает слова, произнесенные едва шевелящимися губами, а то и не шевелящимися совсем. Но тут же, рядом, были и другие слова, и эти другие слова были ножом гильотины, косым и равнодушным лезвием, падающим вниз от легкого, незаметного движения. «Мы не увидимся больше никогда». Эти-то слова были произнесены, и как ни пыталось все его существо отвергнуть их или придать им новое толкование, это оказывалось невозможным. Оставался только один выход — разрушить, нейтрализовать или хотя бы приостановить их действие. Вот тогда-то, в отчаянии, он раскрыл перед ней, а заодно и перед собой все содержимое заброшенного и забытого тайника. Тогда и стал он ворошить старое, пытаясь отыскать в нем что-нибудь такое, что послужило бы причиной отсрочки вынесенного приговора.
Сейчас все рассказанное им ночью Елене Николаевне представало перед ним в ином освещении. Но тогда, в темноте, он, вероятно чисто инстинктивно, пытался воздействовать на самую отзывчивую из струн, всегда напряженных в напряженной женской душе, — на жалость. Иначе с чего бы он вдруг вспомнил о маленьком мальчике, лежащем в большой холодной постели и глядящем не мигая на синеватый свет ночника. Он вспомнил об этом и снова — впервые за последние тридцать лет — увидел это воочию: маленького мальчика, которому было страшно. Страшно и горько одному среди белых, точнее — синеватых от света ночника постелей тех, кого на субботу и воскресенье забирали домой, к родителям и родным. У мальчика, лежащего щуплым клубочком в слишком просторной для него постели, их не было.
Не здесь ли зародились его страх и неуверенность в себе — два зверя, с которыми он, с переменным успехом, должен будет потом бороться всю жизнь, до сегодняшнего часа, то побеждая, то терпя поражение. Страх и неуверенность брали начало в странных звуках, долетавших из-за плотно зашторенных окон, усиливались тревожной непонятностью теней, беззвучно кравшихся по стенам, и странным блеском в глазах склонившейся над ним дежурной няни, от которой пахло одновременно вином, табаком и одеколоном, а может быть, более всего от слов: «Бедняга, бедняга», — и от большой прохладной руки, положенной ему на лоб. Значение этого «бедняга, бедняга» он понял много позже. Тогда же он понял и другое: надежды увидеть тех, кому он был обязн своим рождением, — несостоятельны.
Помнил ли он их? И да, и нет. Он считал, что помнит, и жалость — к самому себе, к ним ли — подкатывала к горлу и глазам. И хотя он разумом понимал, что не мог помнить их, первая убежденность чувства торжествовала над доводами рассудка, и он, вглядываясь в потускневшую любительскую фотографию, видел их и помнил живыми.
Что еще сохранила его память?..
Удивительны были эти мелочи, так четко отпечатавшиеся и сохранившиеся за три десятилетия. Так, например, он вспомнил волчок, юлу, красную с синим, которая досталась ему однажды на Новый год… только какой же это был год — сороковой или сорок первый? Ему было тогда не то пять, не то шесть лет, он был замкнут и привязчив, и няня, та самая, выправляла документы, чтобы усыновить его; но затем что-то случилось, и она исчезла из детского дома, и ему никогда не удалось узнать судьбу той, которая часто в синем свете ночника стояла над ним, положив на лоб ему свою прохладную добрую руку, и, роняя мутноватые нетрезвые слезы, приговаривала: «Бедняга, бедняга».
Полная сумятица царила в Сычеве, когда, пристально глядя в темный провал парадного, в который несколько минут назад вошла Елена Николаевна, он предавался воспоминаниям. В бедной голове его царил сумбур — тут были и воспоминания о слишком широкой кровати, в которой лежит маленький мальчик, натянув до глаз серое одеяло, тут же — воспоминание о странном стонущем крике, и только намеком, слабой скользящей тенью — отзвуки невероятных, похожих на богохульство слов, произнесенных несколько часов назад, — все это на фоне темного провала парадного, в котором только что исчезло все его прошлое, и давнее и недавнее. Он вмещал в себе все это одновременно и при этом чувствовал, что остаются еще не заполненные уголки, потому что, как ни прикованы были к парадному его гЛаза, однако же и на часы успел он взглянуть, и трезвым деловым разумом, которого не должно бы остаться после прошедшей ночи, отметить, что до отлета ему остается чуть более трех часов, и тут же мысль об отлете потянула за собой другую какую-то практическую мысль, а за ней третью, четвертую… и вот уже в его мыслях стал образовываться новый, все вытесняющий слой…
Тогда он повернулся и пошел… пошел… маленький человек, раздираемый одновременно несколькими слоями времени, как некогда преступник бывал раздираем лошадьми, несущимися в разные стороны.
Но ведь он-то не был преступником, и он был жив. И вот эта-то способность оставаться в трех разных временах и думать одновременно, без всякой логической связи, о столь разных предметах, как женщина, сказавшая «никогда больше», мальчик в огромной комнате, залитой холодным синим светом, и самолет, который оторвется от земли через три часа с небольшим (не говоря уж о гораздо большем количестве мелких и мельчайших по своей значимости, или, точнее, уже по своей незначительности деталей), — эта способность огорчила Сычева; в ней он видел образчик того бездушия и жестокости, который вполне определяется словом «практицизм», а ведь здесь, пожалуй, выходило, что именно это качество, которое так не нравилось ему в других, в полном объеме присуще ему самому.
11
Но как бы то ни было — он пошел… и пошел… с каждым шагом приближаясь к будущему, каким бы оно ни оказалось и сколь сильно ни отличалось бы от недавнего прошлого. И что бы он про себя ни думал, какие характеристики ни давал себе — факт оставался фактом: сердце его билось ровно, с каждой секундой все более удалялся он от подъезда, где исчезла Елена Николаевна, и так же равномерно, шаг за шагом приближался к своему дому, чтобы заняться прозаическими приготовлениями к отлету. А так как предстоящие нам дела всегда, хотим мы этого или не хотим, имеют некое невысказанное преимущество перед делами, уже свершившимися, мысли Сычева мало-помалу все больше и больше заполнялись представлениями об этих предстоящих ему делах. Так что, когда он добрался до своей квартиры, он уже полностью был готов к той своей деятельности, которая диктовалась приближающейся минутой отлета. И если бы возможно было заснять последние часы его жизни на пленку, можно было бы проследить, как способен изменяться на глазах один и тот же человек, в зависимости от того, какую роль он играет в тот или иной момент. Вчерашним вечером в комнате номер семь это был просто инженер Сычев; он сидел себе тихонько на стуле рядом с Татищевым. Вид у него при этом был ничем не выдающийся, чтобы не сказать невзрачный — среднего роста человек тридцати с лишним лет с крепкой, хотя и несколько сутуловатой спиной и длинными жилистыми руками; а едва заметный под загаром румянец на щеках свидетельствовал о железном здоровье. Скромно и тихо сидел он в своем аккуратном, несколько тесном ему пиджаке, радуясь тому успеху, который имеет Елена Николаевна. При всем при этом посторонний наблюдатель не в состоянии был бы сказать про него ничего определенного, кроме разве того, что этот Сычев не слишком говорлив…