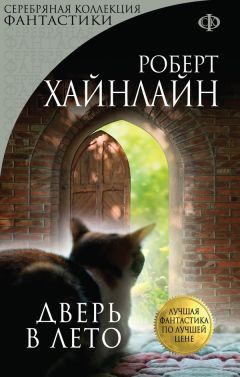Юрий Либединский - Зарево
А хозяин продолжал:
— Но в извинение другу нашему Ильясу должен сказать, что вы оскорбили его религию.
— Вы знаете, Авез, я неверующий, — уже спокойно ответил русский. — Но ведь на нашей дружеской сходке присутствуют двое армян.
«Вот те на!» — подумал англичанин, и такую крайнюю степень изумления и растерянности выразило его лицо, что многие из присутствующих отвернулись, пряча улыбки.
— Позвольте, Авез-ага! — сумрачно сказал лысый аптекарь. — Я армянин и не буду скрывать, так же как и наш молодой соотечественник Нерсес, — он кивнул на безмолвного юношу, который был виночерпием, — что слова малоуважаемого мистера оскорбили нас. Но не только за нацию обиделись мы — больше всего обиделись за человечество.
— Наш дорогой Грегор правильно сказал, — поддержал его сидевший с опущенной головой Мир-Али. — Сейчас пришло то время, когда лучшие люди нашего народа борются за освобождение наших жен, матерей, сестер и дочек от позора гаремов. А мистер Седжер — ему подобало бы поддержать нас в этой борьбе — думает, что, сказав похвальное слово гарему и насмеявшись над участью христианских невольниц, он польстит нам… И еще одно чувство оскорбил присутствующий здесь гость с Запада: он позволил себе сказать слово хулы о великом Грибоедове, поэте, и этим принял на себя вину за его кровь.
— Еще что вы скажете? — высокомерно спросил мистер Седжер.
— Да скажу, что английские дипломаты здесь не без греха, это они поощряли фанатиков.
— Так они делали и делают всегда во имя коммерции, — начал было Ильяс, но Авез, нахмурившись, хлопнул в ладоши, и тот послушно замолчал.
— Прекратим эту распрю, друзья! Когда гости ссорятся, сердце хозяина рвется на части. В оправдание нашему гостю, приехавшему издалека, хочу лишь сказать, что он не знал, куда попал, а если бы знал, то, как человек воспитанный и умеющий держать себя, не высказал бы вслух того, что высказал. И чтобы не было у нас больше недоразумений, мистер Седжер, я скажу, кто мы такие, собравшиеся здесь. Много лет назад мы, просвещенные люди, проживающие в этом городе и принадлежащие к разным религиям и нациям, основали это общество для поучительного и веселого времяпрепровождения, — и мы гордимся, что вы приняли нас за людей одной нации. Здесь присутствуют, кроме азербайджанцев, и армяне. Здесь, как вы уже знаете, присутствует наш русский друг Ильяс, я мог бы сказать, что премудрый наш султан, султан Сулейман, именуется во всем городе и во всей округе курдом. И он, правда, курд по происхождению, хотя по языку азербайджанец. Есть среди нас друг персиянин — он, к сожалению, болен сегодня. Наезжает сюда к нам из Кахетии друг наш грузинский поэт, и тогда веселое вино Кахетии мешаем мы с терпкими винами наших нагорий. И сейчас, когда мир прорезан обильно текущими потоками братской крови, мы заявляем, что не разрушим наш союз, и если бы сейчас вошел в наш дом такой немец, как Карл, мы спели бы заздравную… Мы славим француза Андре и того великого русского, имя которого бережем мы в наших сердцах.
Так говорил он, все более волнуясь, и Мир-Али, уже с беспокойством прислушивающийся к его речи, поднял чашу.
— Вино, столь давно налитое, теряет аромат и свежесть, — сказал он и, обращаясь к Сулейману, весело спросил: — Не разрешит ли султан своему визирю осушить эту чашу?
— Разрешаю, — важно сказал Сулейман. — Ты много говорил, промочи горло. И отныне ты султан, а я ухожу на покой.
— За дружбу, за братство всех людей, за мир на земле! — сказал Мир-Али.
Все молча следили за тем, как медленно, бережно запрокидывая чашу, пьет учитель детей, и не было ни смеха, ни шуток, словно он совершал великое дело.
А выпив, он сказал:
— Теперь же, друзья мои, взгляните в окно. Восток уже проснулся, нам пора на покой… Потому не стану я выбирать себе визиря, чтобы он рассказал нам о чем-либо достойном внимания, а свою власть султана употреблю на то, чтобы пропеть нашу старую песню — песню друзей… Если бы мы наш пир начали с нее, у нас не было бы недоразумений, в ней названы все нации, присутствующие здесь.
И красивым высоким голосом он затянул, а все подхватили:
Споемте, дети, и вспомним тот день,
Когда молодая луна народилась…
Гордость вселенной и разум ее —
Наш добрый Авез
Собрал у себя всех, кто достоин был его доверия…
Один из них был сын курда — Сулейман,
Оружейник и создаватель многих басен,
А другой был армянин, сын Вартана, Грегор,
Аптекарь, лекарь и кеманчист…
И был еще здесь иранец —
Джабар Кербалай, что на старости лет снял свою чалму
И стал сочинять безбожные песни…
И сказал Кербалай Джабар Сулейману, сыну курда:
— Почему, о премудрый Сулейман,
Собрал нас здесь хозяин? —
И сын курда ответил:
— Нас четверо здесь, самых верных друзей.
Мы собраны в день новолунья
Для мудрого слова, для тихой беседы…
Вот зачем собрал нас хан ханов дед наш Авез.
— Нет, — перебил его сын Вартана, Грегор, —
Нас собрали здесь для веселья.
Чтобы под звон кеманчи пели мы песни.
И пусть столько вина здесь будет разлито,
Чтобы мы в этой комнате по колено бродили, как при весеннем половодье,
Вот зачем собрал нас премудрый хан ханов, дед наш Авез. -
И сказал Кербалай Джабар:
— Короток наш путь до могилы.
Чтобы скоротать нам этот путь,
Будем играть мы в нарды, в игру, которая вызывает страсти, но лишена злодейства. —
И молвил тут хан ханов,
Хозяин наш мудрый Авез:
— Я знал, кого собрал:
Мужей света и дела…
Все будет так, как сказал здесь каждый из вас,
Отныне все так будет! -
И в каждое новолунье съезжались друзья:
Одни приезжали на серых конях,
Другие на гнедых,
И лилось здесь вино, и песни неумолчно звучали.
И в музыку веселья вплетались слова грусти,
И душа обновлялась — ей дали лекарство…
Грегор-виночерпий, принеси вино хану ханов.
Чтобы ударил он по струнам своего калама
И миру рассказал бы о том, что
Пришлось ему изведать за долгую жизнь…
Чтобы люди и события, им виденные,
Сохранились в памяти людей,
Хотя о многом виденном говорить трудно…
Не бойся злодеев,
Смело коли их своим каламом,
Каламом, что убивает злодеев, как молния убивает змей и скорпионов!
И будет тебе слава навеки…
Так пел Мир-Али с неожиданным юношеским пылом, пел то, что сложил сам, когда ему было восемнадцать лет. Он тогда бывал в этом доме и полюбил бойкую умницу Фирюзу, дочь Авеза, ставшую верной женой и родившую ему двух сыновей и трех дочерей, — младшую из них он привез сегодня к деду…
А после того как спели эту песню дружбы и любви, все присутствующие пожали друг другу руки и разошлись…
4Все в конце концов закончилось веселой песней и примирением — как вы понимаете, Мадат? — спросил мистер Седжер после того, как они погасили свет в отведенной для них комнате.
Мадат уже лег, ему не хотелось разговаривать: и выпито было немного, и стыдно было за неловкость, совершенную им и его иностранным приятелем в этот вечер. Англичанину, видимо, не давали спать эти же чувства, и он слонялся по комнате. А так как она была невелика, он все время маячил перед глазами Мадата, и когда попадал в полосу лунного света, который вместе с тишиной и покоем струился в узкое длинное окошко, его шелковая полосатая пижама блестела.
Встав перед окном, он заслонил его, в комнате стало совсем темно. «Уснуть бы сейчас», — с тоской подумал Мадат. Но англичанин продолжал разговаривать:
— Полумесяц на минарете, полумесяц на небе, и какая мудрая тишина кругом!.. Люблю мусульманство: оно не требует чрезмерных добродетелей на земле, а блага, которые оно обещает в раю, — это все земные, чувственные наслаждения. Но я, признаться, впервые вижу на Востоке — и на таком подлинном Востоке, как здесь у вас, — чтобы мусульмане садились за один пиршественный стол с неверными… А здесь — и армяне и русские. И эти речи… А кто этот учитель, который рассказывал малоправдоподобную историю о Грибоедове, возомнившем себя дипломатом?
— Мир-Али, ближайший родственник нашего хозяина, муж его дочери, преподаватель русского языка в городском училище.
— О том, что в России множество беспокойных людей, я знал, но чтобы попадались такие…
Мадат сонно зевнул и ничего не ответил.
— Вот этот ваш зевок, Мадат, был притворный зевок, — со смешком сказал англичанин.
— Почему притворный? — удивился Мадат. — Мне правда хочется спать.
— Вам не хочется со мной сейчас говорить, так как вы чувствуете себя передо мной виноватым, вот что, — сказал англичанин, приблизившись к кровати Мадата и полосато-белым столбом возвышаясь над ним.