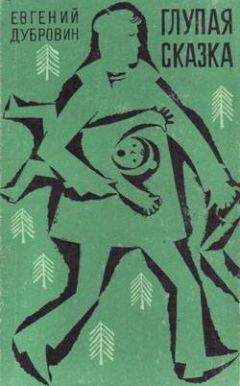Евгений Дубровин - Счастливка
Ветер обжигал плечи… Море было очень синим, до того синим, что болели глаза. Все в белых барашках. И белые чайки. Чайки и барашки. Они мелькали в глазах, и нельзя было сразу определить, где чайки, а где барашки.
Метрах в двухстах от них соседи тоже сооружали навес. Она в купальнике, он в длинных черных трусах неумело навешивали на небольшие колышки одеяло. Одеяло было тяжелым, ветер надувал его, как парус, расшатывал все сооружение, вырывал колышки и затем волок навес по ракушечнику…
«Могли бы и позвать помочь, – подумал Клементьев. – Соседи как-никак. И рейки у меня есть…»
Сын действительно лежал в палатке, в своей излюбленной позе – поставив приемник на грудь. Из палатки тянуло, как из раскаленной духовки.
– Я сделал навес, – сказал Клементьев, присаживаясь на корточки перед палаткой. – Пошли. Знаешь, как здорово.
– Что…
– Я говорю, пошли к нам, недолго и тепловой удар схватить.
– Мне здесь хорошо.
– Сделай музыку потише.
– Что…
– Сделай музыку потише. Невозможно разговаривать.
Лапушка уменьшил звук.
– Вылазь.
– Мне не хочется.
– Я тебе приказываю.
– Что вы ко мне все время пристаете? Дайте мне жить, как мне нравится.
– А как тебе нравится? Бездельничать?
– Сейчас каникулы.
– Ладно, пошли. Уважай хотя бы мать. Она тебя просит.
– Я же сказал – мне здесь хорошо.
– Ты дождешься, – сказал Клементьев, – что я тебя выпорю. Просто-напросто возьму ремень и выпорю, как в старые добрые времена. Пошли.
– Ладно, скоро приду.
Клементьев вернулся назад, шлепая босыми ногами по раскаленному ракушечнику, обжигая подошвы и приседал. Наверно, со стороны он был похож на кота, который осторожно переходит улицу после дождя, отряхивая лапы. Соседи уже установили навес, но по сравнению с навесом Клементьевых это было неуклюжее сооружение: низкое, тяжелое, короткое. Из-под провисшего серого одеяла торчали две пары ног.
– Скоро придет.
– А…
Жена дремала. Клементьев скользнул по ней взглядом, прилег рядом. Да, жена сильно постарела за это время. Просто, видно, годы берут свое. У женщин это всегда так бывает. Как и у цветов – цветет, цветет неделю, а потом за какой-то час – раз, и уже нет цветка… Только намек на былую красоту.
– Симочка…
– Да…
– Ты знаешь, о чем я сейчас думаю?
– Нет…
– Как мы познакомились. Ты помнишь?
– Да…
– Кажется, что было вчера.
– Да…
– А на самом деле почти вся жизнь прошла. Сын вон какой… И все у нас есть. Правда? Все, о чем мечтали. Ты будешь спать?
– Немного.
Клементьев лег на спину и закрыл глаза. С женой они познакомились в больнице. В тот год он сильно продвинулся по служебной лестнице. Стал главным нормировщиком завода. Завод был небольшой, работали там по старинке, новые веяния обходили их стороной, и Клементьев, опьяненный успехом, решил положить этому конец. Хотя бы в области нормирования. Он решил ввести научно обоснованные нормы – НОН. С этой целью Клементьев разыскал в институтском учебнике формулу и принялся за составление НОН. Работа была не очень сложная. В формулу вводились соответствующие данные: марка стали, скорость обработки, подача, число оборотов шпинделя и так далее, и формула тут же выдавала решение: норма на данную операцию такая-то.
Внедрением в жизнь научно обоснованных норм, выведенных Клементьевым, занималась его сотрудница Катя Коротышка. Собственно говоря, это была единственная его сотрудница, так как понятие «главный нормировщик» было относительным – в отделе числилось всего два человека: главный нормировщик – он и младший – Катя Коротышка.
Научно обоснованные нормы получились удивительными. Все полетело кувырком. Там, где, допустим, раньше на обработку детали уходило двадцать минут, сейчас требовались две, и наоборот. Начались конфликты с рабочими. То есть, конечно, на тех операциях, где вместо двух минут отпускалось двадцать, конфликтных ситуаций не возникало, а вот где все получалось наоборот, токарь или фрезеровщик обычно говорили Кате Коротышке, внедрявшей научно обоснованную норму: «А ты сама попробуй!», на что Катя, конечно, ничего ответить не могла, поскольку имела музыкальное образование. Вытирая слезы, она шла жаловаться Клементьеву, что научно обоснованная норма не внедряется. Клементьев бежал в цех, начинал убеждать, показывал формулу из институтского учебника, наконец, грозил и кричал, но все его доводы и угрозы разбивались о фразу «А ты сам попробуй!».
И Клементьев решил попробовать. Он дал себе слово за месяц овладеть профессией токаря. В принципе, конечно, он знал, что к чему: в институте проходили, но практически надо было начинать с самого начала. Учился Клементьев по ночам, один в пустом цехе: у них на заводе не было третьей смены. Дело двигалось, оказалось, что не такие уж нереальные эти научно обоснованные нормы, однако вскоре случилось несчастье. Клементьев работал в костюме, спецовку раздобыть было нетрудно, но начали бы спрашивать: зачем, да почему, да для кого, а Клементьев стеснялся говорить, что он по ночам стоит за станком. То, что он работал в костюме, а не в спецовке, было ошибкой. Вторую ошибку Клементьев сделал, когда стал замерять деталь штангенциркулем на ходу. Неожиданно штангенциркуль рвануло у него из рук, он отдернул руку, и рукав попал в шпиндель. Дальше все произошло мгновенно. С Клементьева сорвало пиджак, руку по локоть затащило в станок, и Клементьев потерял сознание. Он пролежал несколько часов, истекая кровью, на заклиненном станке, пока его не обнаружил сторож, привлеченный ярким светом, бьющим из окон не работающего цеха.
С постели подняли лучшего хирурга, и он всю ночь колдовал над клементьевской рукой. Все кончилось довольно счастливо, перелом лишь в пяти местах, крупными кусками, а могло раздробить кость начисто или вообще разорвать руку в клочья. «Так что скоро будете, если захотите, гирю выжимать своей левой», – сказал хирург.
Первые сутки боли были страшные. Особенно ночью. Клементьев метался по кровати, не спуская глаз с секундной стрелки часов, считал каждую минуту, оставшуюся до рассвета: на рассвете ему почему-то становилось легче. Потом боли стали тупее, привычнее, и «боль ушла в кость», – как говорили в палате.
В палате их было четверо, все уже «с болью, ушедшей в кость», то есть старожилы.
У окна лежал самый давний – по прозвищу «Дед». Ему уже два раза делали операцию – неправильно срасталась кость на ноге. Воспользовавшись случаем, Дед отпускал бороду и отсюда получил свое прозвище, хотя был человеком не старше сорока пяти лет. Это был хозяйственный мужик, тумбочка его всегда была забита съестными припасами и всевозможными инструментами. Дед много и вкусно ел. Если же не ел, то мастерил какие-то штучки: планочки, реечки, что-то склеивал. Сломал он ногу по собственной глупости – полез пьяный чинить крышу своего дома и свалился с лестницы. По воскресеньям проведать Деда приходила целая толпа родственников и знакомых, они рассаживались вокруг дедовой кровать, потихоньку доставали бутылки, оглядываясь на дверь, распивали, хрустели солеными огурчиками, долго молчали, лишь вздыхая и жалостливо поглядывая на Деда, потом Дед, основательно выпив и закусив, начинал читать лекцию на тему, как надо жить. Жить надо аккуратно, говорил Дед, смотреть себе под ноги. Они не ценят этого и не понимают, потому что не валялись по полгода на больничной койке с подвешенной ногой. Все надо делать в меру. Особенно нельзя сильно напиваться. Когда он выйдет из больницы, то начнет новую жизнь: будет пить в меру, много работать, больше не станет сажать на огороде картошку, а заведет парники. Парники в сто раз выгоднее. Здесь лежал один мужичишка, он ему растолковал, что к чему. Его из колхоза исключили, обрезали в наказание за что-то землю по самое крыльцо, оставили колодец да уборную, а он не будь дурак да и застеклил землю между крыльцом, уборной и колодцем. Возит каждый день на базар огурчики да помидорчики и в ус себе не дует. Машину даже купил. Слушая такие речи, жена Деда всхлипывала.
– Господи, – говорила она, вытирая слезы. – Нет худа без добра. Может, и вправду по-другому жить станем. А то водка да водка.
– Посмотришь, – горячо отвечал Дед – Все по-другому пойдет! Я вот уже копии парников строгаю Вот такие они будут, посмотри.
Компания рассматривала планки, реечки, ахала, восхищалась. Пили за выздоровление, за парники, за новую жизнь Деда.
Набив тумбочку съестным, компания шумно уходила. Жена задерживалась, целовала начинающего новую жизнь мужа в уже курчавившуюся бороду и совала ему грелку со спиртом.
Грелку Дед распивал потихоньку ночью со своим дружком, лежащим у двери. Тот попал в больницу с вывихом, и потому его все звали просто Свихнутый. Дождавшись, пока все уснут, Дед свистящим шепотом звал к себе дружка. Свихнутый кондылял к кровати Деда, усаживался в ногах. Они выпивали, закусывали, и приятели затевали длинный, почти до утра разговор. Дед рассказывал про парники и описывал свою будущую новую жизнь, а Свихнутый жаловался на свою старуху. Это, по его словам, была сквалыга, каких свет не видывал. Она вела счет каждому пятаку и, если он, Свихнутый, утаивал от пенсии на кружку пива, то устраивала ему дикий скандал.