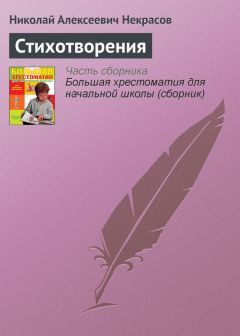Виктор Некрасов - Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы…
Сахаровых единицы… Где Гастелло? Где? Только на войне? Миру мир! А оказывается, постыднее его ничего нет. У меня, видите ли, сын подрастает…
Но эта хоть не врёт, а остальные?
Евтушенко. Когда-то мы все его любили, властитель дум молодёжи, а теперь ночами, видите ли, не спит, нейтронная бомба покоя не даёт.
И Рождественский тоже здесь, в Париже, по телевидению выступал — прорвался-таки. Я горжусь, что я советский поэт, сказал он, мне стыдно за Солженицына, который променял Родину на толстую пачку долларов и сомнительную славу… Тьфу! А я не пошёл на телевидение, хотя мне и не предлагали. А если бы предложили? О Солженицыне, конечно, тоже спросили бы, а что я, уважаемый писатель, участник Сталинградской битвы, отвечу? А? А ещё медаль «За отвагу» в Сталинграде получил.
Оторвался я от букинистов и пошёл на цветочный рынок. Розы, сирень, громадные кусты сирени, ирисы всех цветов, то огненно-красные, белые, розовые, жёлтые и чёрные тюльпаны, двухметровые гладиолусы, какие-то африканские, неведомые, с красными толстыми, точно из носорожьей кожи, лепестками.
У входа в префектуру — она рядом с цветочным рынком — стоял полицейский. Молодой парень с приветливой, курносой физиономией, не то что вечно насупленный наш мент, мусор. Стоял себе и курил, хотя, вероятно, это и не полагается.
Подойти, что ли, к нему? Подойти и сказать — так, мол, и так…
Боже мой, что будет на аэродроме «Шарль де Голль». А до этого в осточертевшем «Эглоне», куда ноги никак не донесут, паника, телефонные звонки, кто его видел в последний раз? Прибегут из посольства, Симонов поминутно будет прикуривать золотой зажигалкой гаснущую трубку, не ожидал, не ожидал, от кого угодно, только не от него, на Клавдии Сергеевне лица нет, хватается за сердце, остальные угрюмо молчат, поглядывая на часы. Растерянный парень из посольства висит на телефоне.
Всё ещё нет… Что делать? Автобус ждёт. Не задерживать же самолёт… Наш, аэрофлотский. Нет-нет, вы сами позвоните, я не буду… Что?.. Не слышу… Лица на нём тоже нет.
Виталий встретил бы с распростёртыми объятиями. Вот это да! Вот это молодец! Да подавись они все! Плевал ты на их сердечные припадки и инфаркты. Симонов, Симонов… Переживёт. Пропесочат, поругают, в следующую поездку не пустят, а потом заколесит по-прежнему… Пойдём пропустим по маленькой, пошевелим извилинами. Как тебе быть, горемычному… Не пропадёшь. Никто ещё здесь не пропадал. И домочадцев твоих потом вытащим. Мобилизуем мировую общественность. Всяких там Бёллей, Моравий, Шагалов. Вперёд, лауреат Сталинской премии, за мной!
А курносый, со славной мордой полицейский, точно предчувствуя что-то, смотрит на лауреата и улыбается.
И вздохнул лауреат, щёлкнул окурком в урну, не попал — не бывать, значит, этому, — и направился к станции метро «Ситэ»…
Через полчаса был в «Эглоне». Все облегчённо вздохнули. Никто ничего не сказал, даже Симонов, только Клавдия Сергеевна, запивая очередной транквилизатор, от волнения пролила почти полстакана себе на грудь.
Лауреат же забился в самый зад автобуса, мрачнее тучи глядел на пролетающие мимо отели, кафе, рекламы и думал о том, что медаль «За отвагу», приедет в Киев, выбросит в окно, нет, отдаст внуку, пусть тот её потеряет или выменяет на какой-нибудь кинжал или жвачку.
Приехав, не выкинул и внуку не отдал. Так и лежит она в своей картонной коробочке, даже не догадываясь, что хозяин её о парижских терзаниях вспоминает всё реже и реже и пишет новый роман.
О чём? А Бог знает о чём. Не всё ли равно? Говорит, что листов двенадцать-тринадцать, обычный его размер.
Говнюк? Зачем? Просто нормальный советский писатель.
Грустная картина? Мало сказать грустная.
Саперлипопет!
Нет, не тянет оно, это французское «жюрон», вялое, без души. Тут бы покрепче, выразительнее. Знаем мы как… Но воздержусь. При всей своей любви, даже, говорят, при злоупотреблении ими, этими столь русскими, нет, не ругательствами, какое ж это ругательство, это крик души, но в письменном виде всё же воздержусь. Не приветствую новое увлечение. Вспоминаю Толстого. После Бородина старик Кутузов сочно матюгнулся, солдаты заржали, пришли в восторг, и мы все поняли, хотя заветные слова автор и не произнёс. Да будет он нам примером…
22
Повествование наше развивается по какой-то странной кривой. Скорее, даже зигзагом. Вперёд, назад, в сторону. Никакой стройности, композиции. Вот и сейчас, после Парижа семидесятых годов, откатимся-ка назад, лет этак на тридцать, к концу сороковых годов.
Эйфория послевоенных лет уже на исходе.
Редакция «Знамени» в те годы находилась на улице Станиславского. По-видимому, в помещении бывшего магазина. В просторной его части, где когда-то торговали, был кабинет редактора Всеволода Вишневского. В подсобках — секретарша, машинистка, редакторы. В обычные дни было весело и шумно. Когда приходил редактор, становилось тише. Он садился за большой стол, спиной к окну-витрине, и начинал писать письма, в том числе и сидевшему в соседней комнате Толе Тарасенкову, весёлому своему заму — очевидно, для истории, последнего тома Собрания сочинений — «Переписка». Это была первая редакция журнала, где меня не отвергли.
В 1947 году, на удивление многим, «Окопы» были «лаурированы».
Потом меня все спрашивали:
— Расскажите, как вам вручали премию. Торжественно? В Кремле? Кто?
Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко МХАТовского администратора тов. Михальского. Он по совместительству был секретарём Комитета по Сталинским премиям.
Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходил в студийные ещё годы в надежде попасть на «Турбиных».
— На сегодня контрамарок нет, — сказал Михальский, даже не повернувшись в мою сторону, он говорил с кем-то по телефону.
— Мне не контрамарку, а…
— Билеты в кассе. От двенадцати до пяти…
— Нет… Мне это самое… Как его… Диплом, что ли…
Он мельком взглянул на меня — фамилия? — и, продолжая говорить по телефону, вынул из шкафа две плоские бордовые коробки — большую и маленькую. Из ящика стола папку, из неё лист.
— Вот тут, пожалуйста. Распишитесь.
Я расписался и взял свои коробки. В большой был диплом. В маленькой — золотая (так говорили) медалька с профилем вождя.
Беседа по телефону при мне так и не закончилась.
С этого момента, точнее дня — 6 июня 1947 года — все издательства Советского Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в свои планы. Делалось это автоматически — раз лауреат, в план, срочно…
Следствием этого было то, что в парижском «Фигаро» через много лет сообщено было в статье, посвящённой только что прибывшему эмигранту, — «личный друг Сталина, член ЦК, миллионер в рублях…»
Миллионером не стал, но какие-то деньжата завелись. Членом ЦК, разумеется, никаким не был, а что касается товарища Сталина…
Вот тут-то и подъехал ко мне, обогнув бел-горюч камень, большой чёрный «ЗИС», и выскочивший оттуда моложавый полковник вежливо козырнул:
— Прошу.
— Куда? — опешил я.
— Садитесь, пожалуйста. Рядом с шофёром попрошу.
— А коня?
— Не беспокойтесь, всё будет в порядке.
Я сел, и мы поехали.
О том, что Сталин невелик ростом и конопат, я, конечно, знал. И то, что «курьёзен» и хороший тамада, тоже, со слов четы Корнейчуков. Но то, что он встанет из-за стола и пойдёт тебе навстречу, кто мог это ожидать? А он встал и пошёл навстречу.
— Заходы, заходы, будь дарагым гостэм, — и, взяв под локоток, подвёл к креслу возле своего стола. — Садысь, садысь, сталинградец, потолкуем. Куришь?
Говорил он с акцентом, но небольшим (в дальнейшем читатель пусть сам расцвечивает его речь, я не буду).
Сталин сел за стол, выдвинул ящик, взял оттуда коробку своей знаменитой «Герцеговины Флор», вскрыл её и протянул мне.
— Кури.
Папироса долго не выковыривалась, от волнения дрожали пальцы. Сталин заметил, но ничего не сказал. Только что-то вроде улыбки промелькнуло на его губах.
— Между прочим, почему «Герцеговина Флор» называется? Не знаешь?
Откуда я мог знать? Сам всегда удивлялся этому нелепому не «Герцогиня», а «Герцеговина».
— Тоже не знаешь. Никто не знает. Даже такой умный, как Шкловский, и то не знает. Странно. Очень странно…
Чиркнув спичкой, он долго, попыхивая, прикуривал трубочку, знаменитую свою сталинскую трубочку. Точно как на напельбаумовской фотографии, мелькнуло у меня в голове. Когда-то я был очень поражён, обнаружив её в спальне Твардовского, над самой кроватью. Другая — Бунина, висела над письменным столом. Это странное содружество долго не давало мне покоя.
Прикурив, Сталин откинулся в кресле и стал разглядывать меня.
Было одиннадцать часов утра. Я запомнил это, потому что часы, неизвестно где висевшие, я их так и не обнаружил, очень сухо и по-деловому пробили одиннадцать.