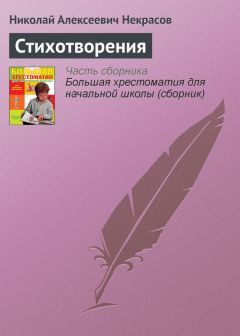Виктор Некрасов - Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы…
— Когда я уговаривал Бунина, это было давно, вернуться домой, я знал, что передо мной человек, ненавидящий всё советское. Но это был Бунин, русский писатель, один из лучших наших стилистов, может быть, только Набокову под силу с ним тягаться. И всё же мы знали, что при всём его озлоблении против нас ему без нас, без России, плохо. И надо было ему помочь. — Тут он посмотрел на меня долгим, укоризненным взглядом. — Ну, а Никитин? Не станете же вы нас убеждать, что ресторанные ваши беседы посвящены были вопросу возвращения его в лоно семьи. Ни семья ему, ни он семье не нужны. Это ясно. Не будем говорить, какой он писатель, — и тут же заговорил о том, что писатель он средний, даже не писатель, а просто свидетель неких событий, пусть с острым глазом и чутким ухом, и события, описанные им, как и всё на фронте, интересные, и всё же только свидетель, не умеющий ни обобщать, ни делать выводы, человек с узким кругозором…
Тут я его перебил и сказал, что в своё время именно в этом обвиняли и меня — дальше собственного бруствера ничего не видит.
— Ну, зачем эти сравнения, дорогой Виктор Платонович? Они совсем неуместны. Слава Никитина — слава дутая, основная масса его читателей и почитателей — алкоголики и одесская шпана. И простите, я не совсем понимаю, что у вас с ним может быть общего…
— Этот самый алкоголь! — расхохотался Виталий. — Ну, дальше, дальше.
— Дальше стали выступать товарищи. И повторять приблизительно то же самое. Никитин, мол, не просто отщепенец и махровый клеветник, подразумевается всё та же «Свобода», а человек, которому ничто не дорого, не свято. Такие понятия, как патриотизм, любовь к Родине, гордость нашими успехами, ему просто неведомы. Наплевать ему на них. Джинсы «Левис», пластинки «Битлз» или «Роллинг-Стоунов», шотландское виски — вот его идеал.
Тут я опять не выдержал и сказал, что в джинсах ты, правда, ходишь и, может быть, они даже получше, чем те, что сейчас на Евтушенко, но виски терпеть не можешь, предпочитаешь «Выборову», а музыку, как ни странно, классическую. Здесь все изобразили благородное негодование и с тебя, Виталий, переключились на меня… А вообще, ну их всех на х…й! Надоело!
— Давно жду этих слов, именно этих, — Виталий одобрительно похлопал меня по плечу. — Чем же всё кончилось?
— Думаю, что не кончилось, а только началось. А на данном этапе, в этом нашем «Эглон» резюмировала, подвела, так сказать, итог всё та же Клавдия Сергеевна. Её удивляет, мол, моё легкомыслие, несерьёзность, непартийное поведение, и что, закончила она, как это ни печально, но в Москве обо всём этом придётся доложить. На этом и разошлись.
— И никто потом не подходил?
— Как же, подходили, озираясь. Тот же Евтух. Плюй, мол, на них, что ты хочешь, иначе они не могут — и, подмигнув, исчез. А вообще, ну их всех! Вот где они у меня сидят со своими партгруппами и поучениями… Давай-ка лучше напьёмся, дорогой мой свидетель интересных событий.
— С острым глазом и чутким ухом… Давай!
И мы заказали бутылку водки. Принесли какую-то неведомую ни мне, ни Виталию, под названием «Staraya datcha».
Потом гуляли по Парижу, от кафе к кафе. Как ни странно, но у Виталия откуда-то были деньги, и мы могли не только пить, но и закусывать. Почему-то не пьянели. Виталий рассказывал забавные эпизоды из флотской своей жизни, я пытался вспомнить последние московские анекдоты про чукчей, они пришли на смену Василию Ивановичу.
Но где-то опять переходило на то, что грызло.
— Вот смотрю я отсюда на Париж, — говорил Виталий, когда мы примостились у окна во всю стену ресторана на 56-м этаже Монпарнасской башни, — гляжу на него, на все эти крыши, улицы, поток автомобилей, всех этих спешащих или, наоборот, никуда не спешащих парижан и задаю себе вопрос — почему надо ненавидеть капитализм? А потому что он плохой, нас с детства этому учили. И любой из этих не спешащих никуда парижан скажет то же самое — плохой! Миттеран это скажет, и старый мудрый Раймон Арон, и Ив Монтан, и Симона Синьоре, и даже этот официант с усиками, ручаюсь. Всем он не нравится, этот капитализм, все его ругают, но у каждого в кармане больше, чем у тебя, знаменитого советского писателя.
И мы заговорили о всеобщей нищете и немыслимом богатстве отдельных представителей страны бесклассового общества. Виталий приводил примеры.
— Кому ты всё это рассказываешь, — не выдержал я. — Ты вот этому мусью в очках расскажи, что за тем столиком сидит, «Либерасьон» читает. Расскажи ему популярно, что такое социализм. Я-то им уже объелся.
— Объелся?
— Объелся. Воротит.
— Что ж, меняй тогда меню. Повара-то при всём желании не прогонишь.
— В обозримом будущем, во всяком случае. А насчёт меню… Ладно, давай расплачивайся, пошатаемся ещё по ночному Парижу.
Распрощались мы с ним, когда совсем уже рассвело. Сидели на каких-то ящиках у самой воды. За нашей спиной проносились, стуча на стыках, редкие ещё ранние электрички. А за полотном, вдоль набережной Андрэ Ситроен, торчали такие чужие этому городу стеклянные башни «а-ля Нью-Йорк» пятнадцатого аррондисмана, по-русски района. Сидели и ждали восхода солнца.
— А это мост Мирабо, — сказал Виталий, — тот самый…
— Какой? — не понял я.
— Ох, уж эта мне темнота… Аполлинер. Гийом Аполлинер. Поэт такой французский был… «Sous le Pont Mirabeau»… Под мостом Мирабо течёт Сена… И дальше что-то там про любовь. Каждый школьник здесь знает.
— Перерос я уже этот возраст, Виталий.
— А тот вон мост, где статуя Свободы, копия той, нью-йоркской, — он махнул рукой вправо, — называется «Пон де Гренель».
— Не отравляй последние минуты, на рю Гренель советское посольство…
21
Вернулся я в свой «Эглон», уже когда первые постояльцы начали опускаться в кафе на «пти деженэ»[7]. Я сел за столик, заказал яичницу с ветчиной и апельсиновый сок.
Когда, позавтракав, уходил, столкнулся в дверях с Симоновым в сопровождении Клавдии Сергеевны.
— А я вас вчера весь день разыскивала, — сказала она, задержавшись в дверях. — Вам раза три или четыре звонили из посольства. Товарищ Червоненко вами интересуется. Просили позвонить не позже двенадцати. У вас есть их номер?
— Есть, — сказал я и направился к выходу.
Оба посмотрели мне вслед. Симонов так ничего и не сказал, был мрачен и суров.
…Впереди был целый день. Самолёт на Москву в 18.00. С «Шарля де Голля». Билеты всем уже раздали. Сбор в гостинице в 16.00. Сейчас было около восьми утра. Виталий сегодня целый день чем-то занят. И вот, оказывается, трижды звонили вчера оттуда. Товарищу Червоненко, послу, я, видите ли, понадобился. Донесла всё-таки эта сука. Вы всё же член партии, товарищ Некрасов, не забывайте…
Не стану туда звонить, ну их в баню, обойдутся…
Я свернул с бульвара Распай, где наш отель, на бульвар Монпарнас, от нечего делать постоял у расписания на вокзале. Может, в Версаль катнуть? И поехал в Версаль.
Не торопясь, в одиночестве, гулял по осеннему парку. Шуршали под ногами листья, слава Богу, никто не подметал. Было пусто, никаких туристов, раньше девяти они не появляются. Бродил по аллеям, вспоминал Александра Бенуа.
А в восемнадцать ноль-ноль в Руасси, на «Шарль де Голль», минут за двадцать до посадки, объявят в репродуктор: «Пассажиров, отлетающих в Москву рейсом № 085, просят пройти к выходу Е». И все направятся к выходу Е, и у каждого в руках будет пухлый пакет, а в пакете дублёнка…
Во дворец я не пошёл, появились первые туристы, японцы, у всех на шее фотоаппараты вот с такими вот полуметровыми объективами. Я сел на электричку и вернулся в Париж.
В центре я уже неплохо ориентируюсь. От вокзала по рю де Ренн дошёл до Сен-Жермен-де-Прэ. Это если не самая старая, то одна из древнейших церквей Парижа, «прэ» — это значит «луг». Она оказалась открыта. Я вошёл внутрь. Две опрятные старушки сидели в разных концах и молились. Третья меняла воду гладиолусам у алтаря. Лучи солнца сквозь цветные стёкла витражей, красные, жёлтые и больше всего синие, то тут, то там оживляли пятнами каменный пол и средневековые стены церкви. Я примостился в углу. Вот если б зазвучал орган. Но ещё рано…
— Ну что ж, Виктор Платонович, — сказал Виталий, когда мы прощались у станции метро «Бир-Хакейм». — На сколько мы с тобой расстаёмся, Аллаху и то неизвестно. Надеюсь, не навсегда…
— J'espere[8], как говорят твои французы. Не совсем ясно, где встретимся, но верю.
— Верю, — сказал он. — Верую. Глупо как-то жить в разных мирах. Глупо и противоестественно.
— И скучно, очень скучно, Виталий. Даже не представляешь как…
— Пытаюсь представить. И понять. И, в общем-то, понимаю. Я ведь умный.
— Ты уверен в этом?
— Абсолютно… И как всякий умный человек, советов никогда никому не даю. А хотелось бы…
— Кому? Мне?
— Тебе хотя бы…