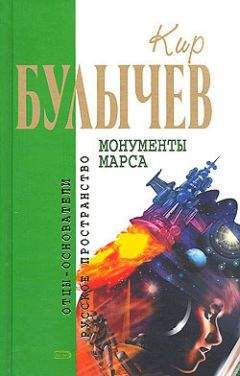Глеб Горбовский - Пугало.
— А что! — сдробил Васенька лодобие чечетки на белом мраморном камне, утопленном в землю возле порога. — Лучше не надо! По здешним трясинам — как на самоходке! Спасибо, Олимпиада Ивановна.
Такие сапожки запросто и меня переживут. А то, что размерец сорок последний, не беда. Хуже, когда жмут. У Сохатого, лесника, ступня тоже гигантская. И вообще, старик — будь здоров, богатырского сложения. Случайно, не родственник вашим мужичкам?
Баба Липа при упоминании Сохатого не то чтобы испугалась, но как-то вся преобразилась: взгляд ее мягкий, синенький, мгновенно заострился, рот плотнее «зашнуровался» морщинами, головенка под платком вздыбилась, как бы приняв вызов.
— Ты с им поаккуратней, сынок. Прокопей — мужик спорченой. Душа в ем темная: ни ему скрозь ее свету белого не видно, ни людям того Прокопия не разгадать.
Ужинать решили свежей картошкой. Парамоша сам вызвался покопаться в грядах, сапоги обновить. Лихо так вонзился в рыхлую земельку ржавой, с надтреснутым стальным полотнищем лопатой. И конечно же порезал несколько клубней. Второй куст выкапывал осторожней, бережней. Штыком лопаты только приподнял приплод, а выгребал его из гнезда пальцами поштучно.
И тут ему кругляшок подозрительный в руки ткнулся. По всем приметам — денежка медная, заплесневелая, ядовитой купоросной зеленцой покрытая. Не разобрать, какого достоинства? На дворе к тому времени изрядно стемнело. Сунул Парамоша денежку в карман куртки. Добрал картошек в чугунок до полного. Сбегал под ракиту со вторым ведром за водой. Отмыл «урожай» от подзола. Отнес в избу к плите, под конфорками которой уже трепыхался, мерцая, огонь, разведенный Олимпиадой. На улице заметно похолодало, и потому готовить взялись дома, с двойной пользой: варка и обогрев — одновременно.
Как-то само собой, ненавязчиво приучила баба Липа прежде суетливого, дерганого Парамошу сумерничать, то есть, не включая электричества, какое-то время после захода солнца тихо сидеть на лавке за столом, глядя… в себя, вспоминая какую-нибудь негромкую радость, промелькнувшую в жизни, или музыку, прозвучавшую некогда, а то и лицо человека… Трепет, скрытое кипение огня в плите, пощелкивание сгорающих дров, ровный, как маленькая ве черняя заря, свет лампады в углу — все это успокаи вало, не умиляло, но врачевало. И Парамоша помалкивал, удивляясь себе, своему завороженному состоянию.
Но вот поспела картошка в чугуне. Олимпиада, слив остатки кипящей воды под рукомойник, посыпала картошку сочным укропом, накрыла горшок сковородой, удерживая аромат. Включили свет. Сели за стол. Чай по просьбе Парамоши кипятили в самоваре. Был Парамоша весьма наслышан об этом старорусском чайном агрегате и, благо подвернулась возможность, вкушал сию прелесть ежевечерне.
Насытившись, поблагодарили друг друга. Олимпиада перекрестилась. И тут Парамоша вспомнил про находку огородную. Извлек ее из кармана, а затем сунул, зажатую в ладонях, под рукомойник. Долго окатывал ее, а заодно и руки, водой, обволакивая и то и другое хозяйственным мылом. Затем насухо обтер полотенцем и вынес руки к столу, под свет лампы. Монета далась Парамоше старинная, восемнадцатого века. Русская. 1731 года. Отчетливо считывались и дата, и слово «денга».
— Вот, бабушка Липа, в огороде у вас нашел. В картошке. Старинная денежка. При царице Анне Иоанновне выпущена. Представляете?!
— Это когда ж она такая, Анна-то Ивановна, царствовала? Про Катерину слыхала, а чтобы Анна царицей русской служила — не припомню. Вона, значит, какие мы бабы-то, Васенька! Отчаянны до чего.
— Меня другое интересует, Олимпиада Ивановна: откуда здесь, в лесной, безлюдной Подлиповке, старинные деньги?
— Да в грядах-то, сынок, чего только нет: и пульки военные, и гвозди ржавые, и пуговки с орлом, черепки, а стекла битого — не счесть. И медяки старые попадаются. Бумажны царевы деньги али серебро — еще долго прятали, берегли. А копеечки медные детям достались. На забаву. Землица — она все копит: и мусор, и денежки, и косточки белые.
Парамоша долго еще всматривался в гостью из восемнадцатого века, представлял и не мог представить себе время, сквозь которое прошел этот медный кружок, явившись пред его очи почти невредим. Более двухсот лет… Вот они! Взвесил их на руке, поднес к лицу, понюхал. Пахло сырым металлом.
— Да-a, копилка. Лучше не скажешь. Там, в этой земле, все и… ничего. И все-таки тысяча семьсот тридцать первый год! Неужели ваша Подлиповка с тех времен держится? — И сам себе ответил: — А почему бы и нет? Вам сколько, Олимпиада Ивановна, исполнилось?
— Годов? А почитай восемь десятков.
— Три таких судьбы, как ваша, сложить — и все дела! И в Анну Иоанновну упрешься!
Парамоша разволновался. Искренность его переживаний была неподдельна, ибо сами стены избы, атмосфера тишины вечерней, ни единым посторонним «механистическим» звуком не разбавленная, способствовали созреванию в Парамоше тишины нравственной, ранее нарушаемой городскими погонями за славой, лжелюбовью, псевдоблагополучием, а то и просто за водочкой.
И тут Парамошиных ушей, слуха его расслабленного, отдыхающего коснулось звучание музыкального инструмента! От неожиданности он не сразу определил, какого именно. И вдруг сообразил: гармошка! Подумалось: у полковника Смурыгина радиоприемник, из него и музыка. Однако играли неровно, с огрехами, и, всего вероятнее, не по радио, а живьем. К тому же исполняли «Раскинулось море широко» — мелодию нехитрую, живущую при народе, как живое домашнее существо.
«Кто же это в порожней Подлиповке на гармошке играет? — озаботился Парамоша. — Нынче и в непорушенной деревне гармошка — музейный экспонат».
Захотелось наружу, поближе к музыке.
— Пойду на двор, покурю… — предупредил Олимпиаду.
Ночь плотно накрыла сырые неокошенные луга вокруг лесной Подлиповки. Свет неяркой, хмурой зари дотлевал где-то за далекими дождями и туманами, за лесными массивами, как за горной грядой, и здесь, в Подлиповке, едва угадывался, будто из глубины колодца. Играла гармошка, и странное ощущение вселенской покинутости, земного, планетарного сиротства, проникшее в Парамошину психику чуть раньше, с пролитием на деревню печальной музыки, сделалось еще выпуклей, неотвязней.
Нет, не от Смурыгина доносилось звучание гармошки, не с его горушки, увенчанной красноперой рябиной, ручейком скатывалось: испарялось оно откуда-то снизу, от овражка с колодцем, от ракиты плакучей, а точнее — от баньки Сохатого.
Прокофий Андреич сидел у входа в свое миниатюрное вместилище на березовой колоде, едва различимый в свете керосиновой лампы, льющей в ночь свой призрачный, лунный свет из прикрытого тряпицей окошка бани. Черная небольшая гармошка пряталась в ветвистых ладонях лесника, будто ласкаемый котенок.
Стоя на незримой тропе, Парамоша вежливо кашлянул. Сохатый моментально отреагировал, приподняв голову от гармошки и прекратив играть:
— Ты, что ли, художник?
Убедившись, вновь заскулил на тонкоголосой двухрядке, но уже не «Раскинулось море…» выводя, а вальс «На сопках Маньчжурии».
И Парамоша вдруг понял, что мешать старику не нужно. Передалось. То ли через музыку, то ли через интонации движений игравшего, во всяком случае — перекинулось и проникло в Парамошин мужающий интеллект.
— Спокойной ночи, — пожелал он негромко, однако Сохатый не ответил. Скорей всего — не расслышал.
Спустя неделю, уже в первых числах сентября, Парамоша, копавший на Олимпиадином огороде картошку, вновь услыхал птичье чиликанье лесниковой гармоники. И опять Прокофий Андреич задушевное что-то наигрывал, кажется, «Темную ночь» солдатскую.
Собрав подсохшую на ветру картошку (солнце отсутствовало), Парамоша загрузил ею кузов тележки, отвез к избе, перетаскал ведрами в подпол, в сусек, устланный, за неимением соломы, крупными сухими ветками конского щавеля. По словам бабы Липы, картошка уродилась добрая. Посадила «всево ничего», пяток борозд, и те с божьей помощью да людской милостью вскопаны были, а точнее — не без участия в деле Прокофия Андреича. Однако «сполучилось» в итоге под сорок ведер, считая мелочь на семена.
Перекурить после копки, ощутимо сказавшейся на Парамошиной пояснице, перекурить с достоинством, чтобы «всласть», — решил Парамоша в обществе старика, пиликавшего на гармошке, то есть развлекавшегося в одиночестве.
«Как-нибудь подъеду к нему, растормошу нелюдима. Не к Смурыгину же официальному в собеседники набиваться. А поговорить с человеком мужского пола очень хочется. Потребность возникла».
И Парамоша, ополоснувшись под рукомойником, причесав Олимпиадиным гребешком бородку, отправился в незваные гости.
Сохатый сидел на том же вкопанном в грунт березовом чурбане. В той же позе гиганта, ласкающего на своих коленях пигмея. А именно гармошку.
Погоды вот уже несколько дней стояли пасмурные, небо, затянутое сплошными, как бы спекшимися, без прогалов, облаками, в любой момент могло просыпать дождь. Парамоша запрокинул к небу лицо, ловя глазами, ртом мокрую пыльцу, оседающую с облаков на землю. Дождем эту морось назвать было нельзя, однако в одежду она проникала, внедряясь в нее исподволь, как озноб в простуженное тело.