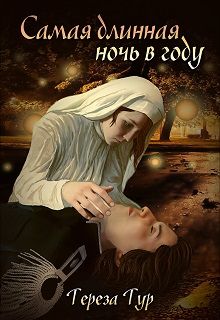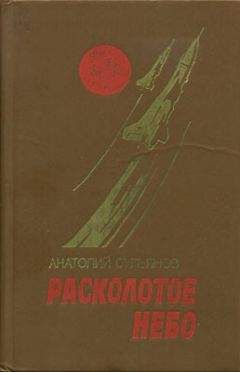Анатолий Калинин - Гремите, колокола!
Но самой большой из всех ее привязанностей всегда оставался Дон. На Дон она согласна была идти в любое время дня и ночи. Может быть, потому, что и начинался ее день с того, что синева Дона, клубясь, вползала к ней в комнату, и заканчивался под неумолчный шорох воды, созвучный ее снам с детства. И если помахал ей Дон из-за острова своим рукавом, ничто не могло ее удержать: ни мать с отцом, ни самая интересная книжка, ни даже внезапно хлынувший ливень или ураганный ветер, налетевший из-за горы. Никакая сила не удерживала. Вплоть до той поры, пока не появилась у нее эта новая привязанность — музыка.
И все чаще сам дом начинал казаться Луговому большим музыкальным ящиком, в котором звучат каждая доска, каждый желоб. А мимо все так же плывет Дон, набегают на берег волны. Если поднимается ветер, они ропщут под самыми окнами. И опять иногда вдруг почудится, что одна из них, самая большая, снимает дом с яра и он тоже плывет, покачиваясь, к морю, до отказа начиненный своим неслыханным грузом.
А потом опять казалось, что это только в воображении могла установиться взаимосвязь между самыми разрозненными фактами, а на самом деле ее нет и никогда не было. Должно быть, все то же тревожное чувство, не отступающее от Лугового, и заставляло его устанавливать эту связь, видеть необычное в том, что является совсем обычным, и, возбуждая память, настойчиво нащупывать ту грань, за которой начиналась совсем другая Наташа.
Пора было и все ее хозяйство перенести с веранды в дом. После ее отъезда ни Луговой, ни Марина, не сговариваясь, долго не трогали ничего. Но теперь уже задуваемая сквозь щели в дощатых стенках веранды мельчайшая влажная пыль начинала ложиться на ее книги, на вырезки из газет и журналов и, конечно, на пластинки. Луговой собирал их на ее столике и на полу, как сено, охапками. Их было столько, что в одну охапку и не захватишь. И только уже у себя в комнате он сортировал их: по одну сторону стола — пластинки, а по другую — всякие вырезки и книги, В их числе, конечно, и книги с фотографиями на обложке этого кудрявого парня с беспомощной улыбкой и как будто нечесаной головой.
…Он будто и сам не верил тому, что произошло с ним в Москве, и хочет сказать своей улыбкой: «Я не виноват». Как, бывает, придонская круча после дождей вдруг обрушивается в Дон, так, похоже, и на него обрушилась вся эта слава. Раскладывая и сортируя вырезки, Луговой задерживался глазами на отчеркнутых Наташиной рукой строчках. И чего только не понапишут о человеке! Как будто он только теперь в Москве и заиграл на своем рояле так, как это умеет только он, или же прямо с луны свалился на головы тех, кто сейчас пишет о нем целые книги, а не жил и до этого вместе с ними в одной стране, а быть может, и на одной улице, упорно не замечаемый ими и безвестный. «Кандидат на забвение»— уже закреплялось за ним перед поездкой в Москву, Когда-то из России в Америку ездили за признанием музыканты, а теперь этому парню понадобилось совершить тот же самый путь из Америки в Россию. Покачивая головой и посмеиваясь, Луговой перелистывал журналы и читал выхваченные ножницами из газет вместе с фотографиями статьи и заметки. Должно быть, в этом все дети бывают похожи друг на друга. Он в свое время вырезывал и собирал портреты Чапаева, Буденного, Ковтюха… О чем только не дознаются репортеры! И о том, как этот парень одолжил у приятеля в Москве пластмассовый воротничок к своей единственной крахмальной рубашке и, когда выходил в Большом зале кланяться публике, из-под его фрака всякий раз показывался какой-то жалкий серый свитер; и о том, как потом, уже дома, он играл на своем первом концерте в ботинке с оторванной подошвой — не потому, что у него не было денег, а потому, что не было времени позаботиться о себе.
— В самом Карнеги-холл? — с ужасом спрашивал у него кто-то из друзей. — Но как вы могли так рисковать?
— Я надел на ботинок резинку, и было очень удобно, — отвечал он со своей улыбкой.
Кто-то даже находил его похожим на Сергея Есенина. Даже и рост не забыли измерить и оповестили мир: 6 футов 4 дюйма. Но тут же и сокрушаются: если бы из него вышел не пианист, то наверняка бы получился центральный нападающий национальной баскетбольной команды.
Америка! Не забыли перетряхнуть и всех его предков: а не объясняется ли его любовь к Чайковскому и Рахманинову тем, что в его жилы закралась капля славянской крови? Не заговорил ли тут голос этой крови? Нет, оказывается, его предки — выходцы из Шотландии, Ирландии и Англии, и, значит, слава богу, победа его на конкурсе не красная пропаганда.
Но вот нижняя челюсть у него истинно техасская, и когда он со вниманием смотрит на что-нибудь, то обязательно закусывает губу. И между прочим, пальцы у него как пучки спаржи. Америка!
А он только беспомощно улыбается со всех портретов: «Честное слово, я здесь ни при чем. Я и сам не могу понять, как все это могло получиться…» И на последней безжалостной пытке у репортеров на докучливый вопрос, чего бы он теперь больше всего хотел, отвечает: «Хочу к маме».
Замордовали парня. Вот до чего может довести эта слава! Наверное, и в самом деле нелегко ему выдерживать ее неожиданный груз, если пишут, что ни одной ночи во время конкурса и после он не мог обойтись без снотворных таблеток. И это после того, как наработается за вечер и за день своими ручищами — вряд ли это легче, чем ворочать камни. Но если бы только руками! Разве Любочка не рассказывала, как однажды во время конкурса он вышел за сцену и, прислонясь плечом к стене, плакал как ребенок?
Но вот уже, с лихвой вознагражденный и за эти слезы, он говорит на аэродроме, растягивая слова:
— Я рад, что возвращаюсь домой. Но все же мне будет недоставать России.
Еще бы!.. Все собрала Наташа, должно быть не пропустила ни одной из газет. Луговой уже не посмеивается, перелистывая их. А ему ведь не семнадцать лет. Оказывается, дело не только в возрасте… И вот через два года знакомая фигура — шесть футов четыре дюйма — опять появляется во Внукове на лесенке самолета, а еще через два из-за его плеча уже выглядывает широкополая шляпа той самой мамы, которой ему так недоставало тогда в Москве.
Ни единой газеты тех дней не пощадили Наташины ножницы. И почему-то Луговой уже не так враждует мысленно с репортерами, которые умеют узнать о человеке даже и то, чего он о себе сам не знает. Конечно, все эти бифштексы с репой и ботинок с оторванной подметкой — чистейшая Америка. Но без репортеров и невозможно было бы узнать о нем все то, что все-таки интересно знать. Особенно когда все это собрано вместе.
А он все так же улыбается: я не виноват. И там, где сидит в белоснежной черкеске с газырями, в папахе, в мягких сапогах с грузинским кинжалом на боку. И там, где его буйно-курчавая голова выглядывает между космическими Белкой и Стрелкой. Это уже не Америка. И оказывается, тот самый знаменитый профессор, которого Любочка запросто называла Генрихом, за эти годы так и не успел разочароваться.
— Мне представляется… что он самый настоящий яркий последователь Рахманинова, испытавший с детских лет очарование и поистине демоническое влияние игры великого русского пианиста.
Но тут-то и прекратила Наташа свои вырезки из газет и журналов. С самого лета больше ни одной. С возрастом ей, должно быть, надоело. И это тоже было знакомо Луговому. Всему свое время. Пора дневников и картинок прошла. Наступила другая.
Нечего было и надеяться когда-нибудь до конца разобраться во всей этой копне ее пластинок. Если бы у него вдруг и не оказалось никаких иных дел, все равно потребовалось бы не меньше тех трех или четырех лет, за которые она и насобирала их у себя на веранде. Но как раз осенью и сходились все дела в виноградных садах: уборка гроздей, обрезка и укрывка лоз, посадки чубуков, по весеннему плантажу и закладка плантажа под новые посадки весной. С началом же плодоношения участков плавая, ркацители и пухляка в степи впервые сказывался и недостаток людей. Для тех, кто, приезжая сюда из других мест, не прочь был бы и навсегда остаться здесь, на донском берегу, не успели еще построить квартир, а хуторским не терпелось поскорее управиться с виноградом в своих садах, пока его не поклевали сороки, не попили осы.
Уже и пьяненькая с утра Махора гостеприимно распахивала калитку, зазывая проходившего мимо Лугового:
— Вы бы хоть разочек поглядели, какой у меня ноне уродился сибирек. И в двух баллонах играет, и в макитре. — Делая руку калачиком, она притопывала:
Я оконце милому закрыла,
Чтобы солнце ему не светило.
Ее окна и в самом деле были завешены изнутри чем-то красным, и к забору прислонился мотоцикл, а то и «Москвич», с городским — шахтинским — номером. Уже кто-то из студенток виноградарской школы, возвращаясь вечером с последнего киносеанса, намалевал губной помадой большими буквами «Кабирия» на стене ее дома. Теперь на всю осень загуляет Махора. А по первому снегу опять придет проситься в совхоз.