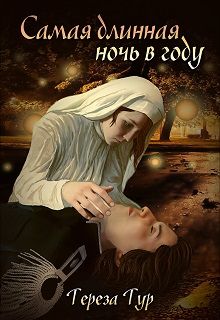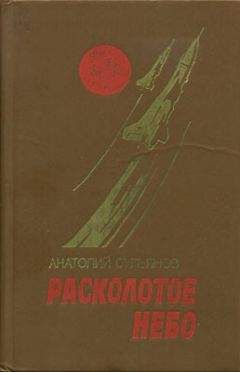Анатолий Калинин - Гремите, колокола!
— Небось наморился на жаре?
— Нет, я там больше в холодке, под вербой, — отвечает Андрей и в свою очередь спрашивает у нее — Дарья не приходила?
— Не была, — говорит Любава. — Я тебе в сельпо такой желтенькой мази купила от комаров. Натрешься — и спи себе спокойно, они ее запаха боятся.
Андрей несет на плече сачок с рыбой, наловленной им в Дону во время дежурства. Голос у него гортанный, как будто надломленный:
— И не переказывала ничего?
— Переказывала с Ольгой Табунщиковой, чтобы гусей…
Но что именно переказывала Дарья своей сестре и мужу сделать с гусями, Луговому так и не пришлось узнать, потому что внимание его отвлеклось другим, и он повернул голову к дому.
Уноси мое сердце в звенящую даль,—
донеслось до его слуха. Грабли замедлились у него в руках. Значит, Марина дочитала письмо и все-таки перевернула пластинку. Рядом ворох листвы, давно уже зажженный Луговым и все время тлеющий где-то в глубине, вдруг вспыхнул и окутался желтым пламенем.
Уже и матросы проходивших мимо судов поняли, что ее здесь больше нет, уехала. Если первое время они даже гудками пытались еще вызвать ее из дома, а тот самый моторист с яхты, что однажды бросил ей с палубы свою тельняшку, принимался звонить и в колокол, то теперь все они проплывали мимо знакомого, похожего на скворечник дома на яру молча. Должно быть, окончательно убедились, что ни в доме ее нет, ни где-нибудь поблизости.
И только Ромка, когда проходили суда, становился передними лапами на забор и, перебегая вслед их движению с места на место, провожал их взглядом, поворачивая серую волчью морду. А если его по-приятельски окликали с палуб судов, он скулил и повиливал хвостом. Но вот приходили к нему поиграть Верка с Петькой, и он начинал бегать с ними по двору, прыгать и позволял им делать с собой все то, чего обычно не позволяет ни одна волчьей породы собака.
Все оставалось таким же, как и до ее отъезда, и все-таки стало иным. Оказывается, и сама осень решила не задерживаться на этот раз. Полынь на Володином кургане уже выгорела дотла, и обнаженная красноглинистая вершина его золотилась под солнцем. Уже и с крупных ягодин буланого, молдавского винограда, оставшихся кое-где под слегами после уборки в садах, сполз сизый дымок летней окалины, и, ярко-черные, они сверкали из красно-зеленой, еще не опавшей листвы, как глаза тех же хуторских ребятишек, нахлынувших в сад, с ведрами и кошелками по оборыши. Теперь и Стефан Демин не палит по ним из своей двустволки солью: оборышей ему не жалко.
На островных вербах и тополях по целым дням заседают вороны и потом долго вьются над островом, спиралью вкручиваясь в небо. И скворцы перед отлетом опять вернулись из степи в хутор. На левом берегу сквозь деревья облетающего леса голубеет небо и смутно желтеет луг. И во дворе, в улочках хутора, и в междурядьях новых виноградников в степи — всюду сопутствует шагам этот шорох палой листвы. Ветер гонит ее по земле, красными и желтыми сугробами наметает к заборам и в кюветы дорог. И никогда еще так не захватывала дух, не казалась такой обжигающе резкой ее сладостная горечь.
Совсем рано поспешил облететь и тот самый клен, в тени которого летом прячется Наташина веранда. Сквозь его многорукие ветви, подпирающие серый свод неба, все время просыпается на веранду пепел тусклого октября. На покрашенные в ярко-зеленый цвет и уже успевшие за лето поблекнуть стены. На забытый еще когда-то очень давно Наташей на гвоздике детский венок из бессмертников — не ярких, но и не увядающих цветов степного Придонья. И на смуглый, горбоносый профиль Рахманинова на открытке, приколотой над приемником к стене кнопкой.
Но листва, слетевшая с клена и окутавшая его выступающие из земли узловатые лапы корней, еще не мертвенная, а пламенно-оранжевая, не отдавшая до конца краски лета. Зато синяя краска Дона сгустилась, и временами он вдруг блеснет на стремнине совсем темно, недоступно.
И в самом деле, ранняя на этот раз осень праздновала вокруг свое торжество. Все, за исключением старого виноградного сада на склоне, чьи корни купались в пробившихся из-под глины родниках, желтело и облетало с ветвей раньше, чем всегда. А там, где осени одной не под силу было справиться со своими обязанностями, помогал ей северный ветер, сквозивший между буграми из степи. Сбивал листья с деревьев в хуторских садах и белесые седые космы с береговых верб. Надвигал на хутор серую пехоту туч, и все начинало блестеть, мокнуть.
Все, что прежде, не задерживая внимания, проносилось мимо, как береговые отмели, деревья, станицы и хутора мимо взбурленного весной Дона, всплывало теперь из памяти. То, на чем прежде не останавливался взор, теперь она рада была услужливо подсунуть, как будто нарочно припрятав все это до времени. И все, что раньше было скрыто, как бывает скрыто займище, залитое разливом полой воды, выступало из забвения, как бугры, левады и лес на том же займище после того, как схлынет с него вода, и выстраивалось в ряд цепью островков, между которыми вскоре уже устанавливалась связь. И вот уже вьется между ними тропинка, белея под солнцем.
Все, все… И то, что у нее уже и в самом раннем детстве были какие-то свои привязанности, и, прежде чем избавиться от какой-нибудь из них, она до конца должна была выстрадать ее. Из всех своих кукол она неизвестно почему больше всего любила не ту волоокую красавицу, явственно выговаривающую «ма-ма», а сшитую ей бабушкой из старого фартука Марфушку с куделью желтых нитяных волос. У оказавшейся рядом с нею на подушке в день рождения красавицы она в тот же день повыковыривала из орбит ее глуповатые глаза, а Марфушку укладывала с собой спать и причесывала бабушкиным гребнем вплоть до того времени, когда вдруг и к куклам и ко всему остальному из привязанностей детства сразу же утратила интерес. И Валю избрала себе в подружки не потому, что та была лучшей из хуторских девчат. Были среди них и не хуже, а Валя и моложе ее была почти на два года и, по правде сказать, до крайности ревнива — требовала, чтобы ни с кем, кроме нее, Наташа больше не водилась.
Приобретало значение и то, что раньше казалось совсем обычным. И тот случай, когда, очутившись однажды с отцом и матерью в Москве и попав с ними в Зеленый театр, она как вышла и проход между рядами, так весь вечер и простояла там, не шелохнувшись, не отрывая глаз от Марины Семеновой. И то, что, едва вернувшись домой, немедленно потребовала от бабушки, чтобы та ей сшила из марли пачку, а от матери, чтобы купила в городе пуанты, — с того дня и дом их, и двор, и берег Дона надолго превратились в арену для полетов Одетты.
Но, конечно, и преувеличивать все это нельзя было. Ну кого же из родителей не захлестывало этими приливами тщеславной гордости по поводу способностей их чада! А восторженный хор родственников и знакомых тут же спешит на поддержку. Еще бы, если, едва научившись ходить, девочка уже вбегает со двора с курицей под мышкой и кричит своей бабушке гремящим шепотом: «Скорей сыпь пашено, а то мать увидит!» Еще бы, если в трехлетнем возрасте она и сама, как квочка, налетает в городе на деда: «Не смей обижать мою Любочку!» — и тут же, увидев сердитые дедовы глаза, перестраивается: «Дедушка, миленький, пожалуйста, не обижай Любашу». А в четыре года, устав заглядывать через плечо бабушки, читающей ей по складам сказку, решительно выхватывает у нее книжку и сама дочитывает ее не по складам, а совсем бойко. И когда начинает учиться, до самого десятого класса из стен школы на нее не поступает никаких жалоб, за исключением тех, что она терроризирует мальчишек.
Раньше, чем у всех в хуторе, появлялись у них в доме на столах и на подоконниках подснежники и тюльпаны, мать-и-мачеха и львиные зевики, полудикие алые и белые розочки, растущие в балках и на пустырях, на месте бывших кулацких садов. Ни с чем не сравнимые запахи — сладкие, горькие, опьяняюще-терпкие и чуть слышные еще на провесне — вторгались в дом и исчезали уже в самом конце осени.
Но самой большой из всех ее привязанностей всегда оставался Дон. На Дон она согласна была идти в любое время дня и ночи. Может быть, потому, что и начинался ее день с того, что синева Дона, клубясь, вползала к ней в комнату, и заканчивался под неумолчный шорох воды, созвучный ее снам с детства. И если помахал ей Дон из-за острова своим рукавом, ничто не могло ее удержать: ни мать с отцом, ни самая интересная книжка, ни даже внезапно хлынувший ливень или ураганный ветер, налетевший из-за горы. Никакая сила не удерживала. Вплоть до той поры, пока не появилась у нее эта новая привязанность — музыка.
И все чаще сам дом начинал казаться Луговому большим музыкальным ящиком, в котором звучат каждая доска, каждый желоб. А мимо все так же плывет Дон, набегают на берег волны. Если поднимается ветер, они ропщут под самыми окнами. И опять иногда вдруг почудится, что одна из них, самая большая, снимает дом с яра и он тоже плывет, покачиваясь, к морю, до отказа начиненный своим неслыханным грузом.