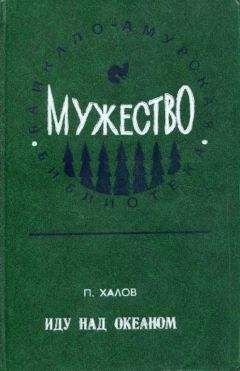Павел Халов - Пеленг 307
Мы медленно поднялись на второй этаж по тускло освещенной, скрипучей лестнице. Нам открыли так быстро, словно специально ожидали за дверью. В коридоре желто светила запыленная лампочка. Молодая женщина со светлыми короткими волосами, зачесанными за уши, присев, обнимала тонкими руками Павлика.
— Извините, — проговорил я. — Случилось так, что мы не смогли прибыть вовремя...
Павлик, засыпая, что-то говорил ей и пытался высвободиться. Женщина подняла мальчика на руки и сказала:
— Я только уложу его... Не уходите, прошу вас...
Она пошла в комнату. Я немного потоптался на месте. Дверь налево вела в кухню. Там было темно. Тогда я тоже пошел следом за ними. Под низко опущенным оранжевым абажуром горела лампочка. Она ярко освещала прочный стол, накрытый синей скатертью с желтыми драконами. Все остальное было погружено в теплый уютный полумрак. Я разглядел этажерку с косо стоящими книжками, низкий диван у стены. На полу возле ножек стола, у дивана, паслись тапочки, стоптанный домашний туфель и маленький, наверно Павликов, сандалик. И это тоже оживляло комнату, делало ее еще более уютной. Направо была дверь, скрытая гардинами. Там было темно, и оттуда доносились голоса.
Я сел на диван. Достал папиросу и размял ее. Отыскал глазами пепельницу. Она стояла на столе — бронзовый кленовый листок. Он был чистым. «В этой комнате давным-давно не курили», — подумал я.
— Хорошо, хорошо, сынок, — доносилось из соседней комнаты. — Ты завтра все мне и расскажешь. Я приду с работы, и ты мне все расскажешь. А теперь ты должен спать, милый... Мне еще нужно поговорить с дядей Семеном.
— Он не дядя, — сонно и от этого чуть-чуть капризно поправил ее Павлик. — Не дядя, а просто Семен...
— Ну, хорошо, пусть просто — Семен... Спи, Павлуша. Утро вечера мудренее.
— Натощак человек умнее, мама?
— Да, спи, сынок...
Она осторожно прикрыла за собой скрипнувшую дверь, и, пока шла через комнату, мне казалось, что она еще там, вместе с Павликом. Я не видел глаз этой женщины, но во всей ее фигуре, в замедленной походке, в склоненной к плечу голове с кое-как заколотыми волосами было такое, будто она прислушивалась к чему-то. Я поднялся. Она посмотрела на меня, но ее взгляд, глубокий и темный, был обращен внутрь.
— У него горячая голова. Не простудился ли? — как бы для себя с расстановкой сказала она.
— Не думаю. Сегодня вечер теплый.
Она словно проснулась.
— Ой, да что же я! Сидите. Я сейчас подогрею чай. — Она ушла на кухню. Я слышал, как там щелкнул выключатель. Через минуту она вернулась с двумя стаканами и сахарницей.
— Я давно знаю вас. Павлик... Мальчик он. И по самые уши полон степью, вами и вашим «москвичом», — говорила она, расставляя посуду.
Мне показалось, что в ее голосе звучит грусть. Изредка она поглядывала на меня, убирая со лба волосы тыльной стороной ладони, и движение это было чуть-чуть замедленным — усталым. Я сказал, что Павлик настоящий парень, я привык к нему, и тоже кое-что знаю о них...
—У вас есть тетя Лида, которая готовит голубцы...
— Да. Это соседка. Она иногда помогает. Мне сейчас трудно. В сентябре мы сдаем элеватор... — Она помолчала. — Наши ребята предлагали мне отправить Павлика в пионерский лагерь. Но в последнюю минуту я передумала...
— Вы работаете на стройке?
— Да, я — мастер. Вон еще наряды заполнять надо.
— Простите, — сказал я, собираясь подняться. — Вам надо работать, уже поздно,
— Нет, нет. Я вас не отпущу.
Чай мы пили из стаканов. В сахарнице лежали круглые желтые конфеты. Крепкий чай пылал знойным огнем. Я грел пальцы о гладкое стекло. И думал, что мне не хочется уходить из этого дома. Женщина пила чай, наклоняя голову. У нее были пухлые Павликовы губы — верхняя губа чуть толще нижней, но в них была твердость. Ей двадцать семь — двадцать восемь лет, не больше, думал я. Взрослое спокойное лицо, горьковатые складочки у рта — они начинались едва заметно у крыльев вздернутого носа и опускались до подбородка. В уголках глаз кожа была тонкой и чуть-чуть голубоватой. И маленький подбородок был очерчен твердо, как у Павлика, и по-женски нежно.
— Вы очень похожи на Павлика, то есть я хотел сказать — Павлик похож на вас.
— Странно, — сказала она раздумчиво. — Я уже привыкла, что у меня сын. Сказки ему рассказываю про прораба, про принцессу Машу — мастер наш. Я привыкла кормить его. И он иногда мне даже мешает. Но вот сегодня вы задержались, А я места себе не находила. Хотя, казалось, ну что может случиться?.. Он же с вами... Только бы не простудился...
— Да, — сказал я.
Я сидел, положив руки на край стола. Вдруг я заметил, что она пристально смотрит на них.
На правой руке между большим и указательным пальцами разбитной моторист с «Крузенштерна» выколол мне якорь еще на курсах. Тогда руки у меня были крепкие и ладные. И якорь был ярко-синим и маленьким. Теперь, раздавленные железом, размягченные соляром и горячим маслом, они стали большими и пористыми. Якорь тоже расплылся и поблек. Я забыл про него. Я подумал, что Павлик видел и великолепную русалку с хвостом селедки на моем левом плече — там, возле залива, — поежился и прикрыл якорь рукавом.
— Молодость, — буркнул я.
— Сколько же лет вам? — спросила она.
— Много. Уже двадцать восемь...
— Я думала — больше... Немного больше, — поправилась она.
— Да, — ответил я. — Возможно, вы правы. Иногда я чувствую, что я старше самого себя...
Она проводила меня до лестницы. Прощаясь, я посмотрел на нее. Она была чуть повыше моего плеча. Я еще раз удивился, до чего они с Павликом похожи друг на друга. Особенно глаза — сухие и упрямые. Они смотрели так внимательно и пытливо, будто я должен сейчас сказать что-то очень умное и важное.
Я пожал протянутую руку. Она подошла к перилам. Я остановился и, глядя на нее с нижней ступеньки, сказал:
— На всякий случай завтра пришлю маму. Она принесет сухой малины для парня.
Спускаясь с крыльца, я слышал, как на втором этаже захлопнулась дверь и ключ дважды повернулся в замке.
«Все-таки на улице прохладно, — подумал я. — Как бы и в самом деле Павлик не заболел...»
Собирался дождь. Собственно, он уже накрапывал. И когда я добрался до дому, капли дружно ударили по железной крыше.
Глава пятая
Петропавловск накрыт снегом. Снег теплый, рыхлый, мартовский. Сопка Любви почти сливается с белесым небом. Снег шапками лежит на крышах домов, на телеграфных проводах. Человек, идущий по улице, заметен далеко. Черная фигурка на белом фоне. У белых причалов черные корпуса судов. На их мачтах и палубах, на крыльях мостиков и на трюмах тоже лежит снег.
Над ленивой водой бухты низко плывут густые металлические удары, стелется захлебывающаяся дробь пневматических молотков, шипенье электросварки. Осадистый грязно-голубой «Ороч» травит пар. Портовые краны острыми клювами уносят в небо связки бочек.
Временами все перекрывает чей-то хриплый, усиленный мегафоном бас:
— «Стремительный»! Уберите швартовы. Я снимаюсь. «Стремительный»...
Из-под кормы высокого рыжего парохода что-то раздраженно отвечают. Завыли лебедки, и голоса растворяются в их вое. Но бас выплывает опять. Он по-прежнему ровен и настойчив:
— «Стремительный»! «Стремительный»! Уберите швартовы...
«Стремительный» молчит.
Бас не выдерживает и разражается на всю бухту:
— Да уходите вы к... — Конец фразы перекрывает сирена портового буксира. На палубах судов весело и понимающе переглядываются.
Из-за борта парохода, поплевывая горячей водой и постукивая дизелем, выползает полутисс «Стремительный». На среднем ходу он проходит так близко к «Коршуну», что между судами, наверно, не просунешь руки. На крыле мостика полутисса высокий человек в блестящем резиновом плаще и капитанской фуражке. У него темно-коричневое лицо. Он что-то говорит суетящимся на палубе матросам и, пригнувшись, исчезает в узких дверях рубки.
«Коршун» несколько раз грузно качнулся на волне. Семен зябко повел плечами и сжал зубы...
Сегодня капитан не давал команде ни минуты покоя. «Коршун» готовился к рейсу. Уже Мишка отправился за «отходом», уже приняты и погружены снасти и продукты, уже залиты водой и соляром танки. И ошалевшие от суматохи и окриков матросы мотались по палубе, подбирая разбросанные инструменты. Стармех, опухший и злой, вконец издергал механиков. Когда в машинном отделении все заблестело, он послал их наверх в последний раз опробовать лебедку и шпиль. Он словно проснулся после спячки и наверстывал упущенное.
Семен и Меньшенький появились на палубе в ту минуту, когда полутисс резал корму «Коршуна» .
Меньшенький младенчески улыбался, щурился от нестерпимого после сумерек машинного отделения света и жадно вдыхал холодный воздух. Феликс стоял у борта, вцепившись обеими руками в леер так, что побелели косточки пальцев. Его скуластое, заострившееся лицо было круто обращено в сторону полутисса. Он плотно сжал полные губы, ноздри чуть-чуть вздрагивали. И весь он подался вперед, будто хотел что-то крикнуть тому человеку, который только что исчез в рубке полутисса.