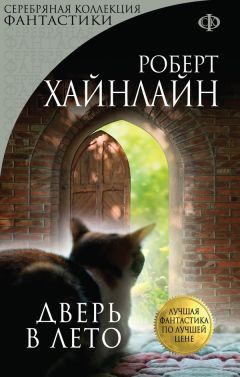Юрий Либединский - Зарево
Ведя этот разговор, поднялись они на верхние аллеи сада. Здесь скалистые склоны покрыты были, словно чудесной тканью, сплошною синей завесой глициний. Над ними кактусы поднимали свои колючие головы и высились во всем великолепии своего причудливого уродства…
Но Константин и Александр все ускоряли шаг, они торопились и не заметили того Леона Манташева, о котором Константин расспрашивал Сашу.
На садовой скамье, что стояла на лужайке, откуда видны были окружающие Тифлис голые горы, сидел Леон Манташев. С ним был Рувим Абрамович Гинцбург. В коричневом с веселой крапинкой костюме жокейского покроя, оранжевом в черную полоску галстуке, ярком желтоватом и тоже жокейского фасона кепи с большим козырьком (кепи он держал в руках) Манташев похож был на циркового наездника. Прямой пробор надвое делил его черные волосы, спереди сильно поредевшие и разложенные на кокетливые завитки.
Настороженное внимание было на изрядно поношенном носатом, бровастом лице Манташева с такими синими подглазницами под выпуклыми глазами, что казалось, будто они подведены.
Матовое, чисто выбритое лицо Гинцбурга сохраняло обычное сонно-надменное выражение.
— Что ж, — говорил он медлительно, — если вам этого хочется, я открою карты. Участия в нашем деле Каспийско-Черноморского товарищества мы уже добились — и это наш главный успех. Вы понимаете, конечно, что это определяет позицию ряда других фирм.
— Все эти «соучастники», «Урало-Каспийское товарищество», «Кавказское нефтепромышленное товарищество» — все это мелочь, мелочь… — пренебрежительно проскрипел Манташев.
— А Шибаев? — с усмешкой спросил Гинцбург.
— Что Шибаев?
— С Шибаевым переговоры уже почти закончены.
— Но Шибаев и Ротшильд вместе? — и Манташев усмехнулся. — Вам, наверно, неизвестно, уважаемый Рувим Абрамович, что Шибаев выступил на съезде Союза русского народа с погромной речью о еврейском и армянском засилии в нефтяном деле и прямо назвал Ротшильда и меня.
— Это политика, — спокойно возразил Гинцбург. — У главы фирмы «Шибаев и сыновья» есть определенные политические воззрения. Лично нам они могут быть неприятны, но мы с вами — серьезные люди, и для нас финансовая сторона дела важнее всего. Со времени соглашения, подписанного Шибаевыми в Англии, я убежден, что Шибаевы пойдут за сэром Генри Детердингом, то есть за «Роял Деч Шелл», которое я имею честь представлять… «Шибаев и сыновья» — это они в России так называются — всего лишь русская вывеска с двуглавым орлом. В Сити они именуются «Тэ Шибаефф Петролеум компани Лимитед»… И если сэру Генри Детердингу нужно, чтобы Ротшильд и Шибаев вступили в соглашение, они вступят в соглашение.
— Значит, дело, выходит, только за нами? — тихо спросил Манташев.
— Конечно, — ответил Гинцбург.
Некоторое время оба собеседника молчали. Манташев сквозь зубы насвистывал какой-то шантанный мотивчик.
— Неужели тысяча девятьсот седьмой год, когда вы в результате поражения, нанесенного Немецкому банку, оказались изолированными в финансовом мире, не научил вас тому, что время существования независимых фирм прошло? — спросил Гинцбург.
Манташев пожал плечами.
— Мы входим наряду с другими бакинскими фирмами в Европейский нефтяной союз, — тихо напомнил он.
— Европейский нефтяной союз — это слишком широко и неопределенно, — неторопливо возразил Гинцбург. — Через год или через пять лет, но столкновение великих держав, как вы со мной согласились, неизбежно. Вторая балканская война обнаружила, что Румыния находится под сильным влиянием Германии. Если начнется большая европейская война, немцы должны наложить руку на румынскую нефть. Единственное место, которое может в таком случае стать на Черном море стоянкой великобританского флота, это Батум. Но англичанам, понятно, нужны оба конца нефтепровода — и черноморский и каспийский. И немцам, на которых вы тайно уповаете, мосье Леон, потому в Баку не бывать.
— Пока и Батум и Баку находятся в пределах Российской империи, — сказал Манташев, вставая с места.
— Эта империя не вынесет столкновения с любой европейской державой…
Нефтепромышленник засмеялся и ответил:
— Если Романовы полетят, Манташевым не удержаться.
…Когда Константин и Александр торопливо подошли к большому водопаду, одному из самых оживленных мест сада, здесь уже было малолюдно, даже фотограф, обычно дремавший на одной из скамеек возле высящегося на треножнике аппарата, собирал свои доспехи. Давид вышел им навстречу из-за деревьев…
— Слава аллаху, вы! — сказал он, крепко пожимая руку Константину. — Здравствуйте, Саша, — сказал он по-грузински. — Значит, к нам? Сейчас мы пойдем.
Он ушел в кусты, где скрывался другой дозорный: при появлении полиции или шпионов этот дозорный обязан был подать сигнал. К месту, где происходила летучка, пройти можно было только отсюда. Давид вернулся, и они двинулись.
— Вы знаете, что меня чуть не поймали? — спросил Константин.
— С утра знаю, хозяин вашей квартиры сумел известить Лену. Мы очень беспокоились, думали, что они все-таки поймали вас.
Довольный тем, что с Константином все благополучно, Давид был весел. Константин отвечал то улыбкой, то смешком на смех и шутки Давида.
Но Александр, взглядывая на его серьезное лицо, понимал, что Константин озабочен своими мыслями. И верно, спускаясь вниз по узкой тропинке между кустарниками, Константин собирал все силы своей души для предстоящего выступления.
Поворот, еще поворот, лужайка, и среди низкорослых, усыпанных красными ягодами кустарников — камни, словно самой природой предназначенные для того, чтобы на них сидели люди.
Александр узнавал своих учеников. Лена Саакян с явно выраженным недоумением подняла на него свои светлые, с темными зрачками глаза, кивнула ему и спросила о чем-то Константина. «Обо мне», — подумал Александр. Другие ученики воскресной школы тоже входили и здоровались с Александром обрадованно и с оттенком удивления. Здесь были также и люди, незнакомые Саше, по всему своему облику рабочие разных национальностей.
Александр отошел и сел на камень.
Заговорил Давид. Он говорил по-русски, раздельно и твердо, и Александр, по привычке следя за грамматическим строем его речи, сначала упускал смысл ее. Но вот голос Давида гневно дрогнул, и Александр забыл о грамматике.
— Они хотели воспользоваться тем, что руководящих товарищей выхватили из наших рядов жандармы. И, выдавая себя за руководителей Тифлисской партийной организации, стали с меньшевиками… то есть к меньшевикам ластиться. Запах меньшевизма, — разве мы сами в нашей школе его не чувствуем, а? Они хотят превратить нас, сознательных рабочих, в школьников. Грамматику и арифметику учить — дело полезное, но для этого одного школу можно бы и не открывать. Совесть у них нечиста, потому они скрывают от нас свой отход от учения Ленина, — стыдно им правду о себе сказать! — Давид, зная, что возвысить голос нельзя, поднял палец. — Но мы не школьники, мы сознательные рабочие! — повторил он. — Сейчас к нам в Тифлис приехал один старший товарищ, — и он указал на Константина, — он расскажет нам о положении в стране, о задачах партии и о том, что скрывают от нас наши премудрые примиренцы.
Произнося последние слова, Давид глядел в сторону, где показалась крупная фигура.
— Уста Мамед? — изумленно спросил Давид. Прерывая русскую речь и переходя на азербайджанский, он обратился к Мамеду: — Когда вы прибыли в Тифлис?
— Только что, сын друга моего. Хотел зайти к вам домой, но счастливые звезды над моей головой! Встретил я вашу мать у колодца, и она сказала, что отца вашего взяли насильники.
Они говорили по-азербайджански, но Александр еще в детстве выучился этому легкому и красивому языку, играя с детьми дворника азербайджанца.
— Друзья, — сказал по-русски Давид, — вот наш товарищ из Баку. Если наш старший товарищ простит нас… мы раньше дадим слово бакинцу.
Константин отошел в сторону, ему самому интересно было послушать бакинца.
Уста Мамед вышел вперед, — теперь всем видно было его широкое лицо, доброе и решительное. Он заговорил по-русски. Он благодарил за деньги, присланные из Тифлиса в стачечный фонд, и, скрепив в рукопожатии две свои большие руки, изобразил дружбу и братство рабочих Тифлиса и Баку. Он сказал, что в бакинской стачке участвуют десятки тысяч.
— Но мешает нам меньшевик. «Не нужна общая большая стачка, нужно много маленьких, так большую массу охватим», — говорит меньшевик. И когда мы спорим с ним, отстаивая наши главные лозунги, он говорит: «Разве мы против демократической республики? Так же, как вы, хотим демократическую республику! Но масса рабочих до этого не доросла. Одним требуется прибавка к заработной плате, и больше им ничего не нужно, другим — только дай фартуки и рукавицы, чтобы свою одежду на работе не изнашивать. Потому, — говорит меньшевик, — пусть каждое предприятие требует своего». Одни будут требовать демократическую республику и постройку новых поселков для рабочих, а другим, кроме новых фартуков и рукавиц да еще кадетского министерства, ничего не нужно. — Переждав смех и аплодисменты, Уста Мамед выпрямился во весь свой рост и, точно весь став крупнее, сказал: — А наше слово такое — слово большевиков! Мы говорим: рабочий класс — сила, когда он весь вот так, — поднял он над собранием большой свой кулак. — Рабочий класс — умный. И если брат твой дальше новых рукавиц и фартуков не видит, раскрой ему глаза на великие цели рабочего класса. Стачка — паровоз! Летит вперед к всеобщему вооруженному восстанию! — сверкнув глазами, сказал Мамед и с удовольствием засмеялся рокочущим, мягким, выражающим доброту и силу смехом. — И наше большевистское слово — куда только оно залетит, там люди соединяются в такой вот кулак. Но где только большевик голос подает, туда тянется рука в золотом рукаве и собирает нас в свой зимбиль [2].