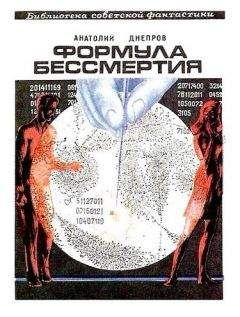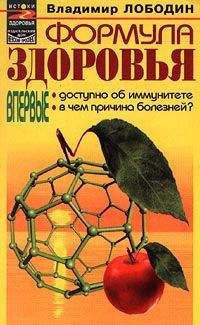Формула памяти - Никольский Борис Николаевич
Конечно же, в институте существовала своя иерархия. Сотрудники помладше никогда бы не решились без крайне важного повода беспокоить Ивана Дмитриевича, они робели перед директором и, встречаясь с ним на лестнице или в коридоре, здоровались почтительной скороговоркой и старались торопливо прошмыгнуть мимо, если, разумеется, сам Иван Дмитриевич не останавливал их, не начинал расспросов. Другие — постарше, те, с кем работал Архипов уже не один год, — при встрече улыбались Ивану Дмитриевичу, замедляли шаг, приостанавливались, зная, что он обязательно со старомодной вежливой обстоятельностью справится о здоровье, о семье, о делах и только потом, все так же не спеша, медлительным, тяжелым шагом пойдет дальше. Но и эти люди не считали себя вправе без приглашения или без особой нужды заглянуть в кабинет директора, — разве что с разрешения деятельной и строгой его секретарши Маргариты Федоровны. Была, наконец, в институте еще одна категория сотрудников — своего рода ареопаг, давние соратники Архипова, кого он знал еще задолго до создания института. Те могли себе позволить взять Архипова под руку и так идти с ним, обсуждая на ходу институтские дела, делясь новостями или попросту рассказывая какую-нибудь анекдотичную историю, которая приключилась с кем-нибудь из их общих знакомых… Вот эти люди — в основном заведующие лабораториями, члены ученого совета — не то чтобы имели право, а скорее считали своей обязанностью, своим непременным долгом повидать Ивана Дмитриевича в первый же день после длительного его отсутствия.
Разговор при этом, конечно же, велся весьма беспорядочный, неуправляемый, расспросы перебрасывались с одного на другое, кто-нибудь, запоздавший, явившийся в разгар разговора, обязательно спрашивал о том, о чем уже несколько раз спрашивали до него, и Архипов терпеливо принимался отвечать снова.
Симпозиум — полет — отель — Токио — Сад камней — Гиндза — сакура — симпозиум — Фудзияма — забастовки — опять симпозиум — доктор Кроули — сервис — автострады — мэрия — прием — воспитание детей — симпозиум…
И сквозь эту, почти праздничную, сумятицу расспросов время от времени все-таки пробивался Анатолий Борисович Перфильев со своим докладом об институтских делах: выполнено… сделано… договорились… побывали… проведено… тоже проведено… ждет вашей подписи… пока в стадии решения… выполнено…
Эта его лаконичная деловитость всегда нравилась Архипову. Сам он этим искусством так и не овладел в полной мере — в этом он признавался себе, да и другим вполне самокритично, с добродушной насмешкой над самим собой. И если порой в институте поругивали Перфильева за излишний, мол, бюрократизм, за жесткость, Архипов всегда вставал на его защиту. Что бы там ни говорили, а именно Перфильев освобождал его от немалого количества не приносящих особого удовлетворения, но неизбежных дел и забот. При этом к себе Перфильев был требователен не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем к другим. Эта черта его характера не могла не вызывать уважения.
Но сейчас… Что за чувство внезапно испытал Архипов сейчас? Уж не ревность ли шевельнулась в его душе оттого, что, кажется, все меньше оставалось дел, которые не могли бы быть решены в его отсутствии?.. Или тому был виной утренний разговор со Стекольщиковым?..
…Рабочий день уже приближался к завершению, когда Архипов наконец добрался до Гурьянова, до всей этой истории с газетной статьей, и Гурьянов был вызван к директору. Архипова, правда, тянуло заглянуть хотя бы на полчаса в свою лабораторию, где его тоже наверняка ждали. Раздарить японские сувениры, увидеть радостные знакомые лица, увидеть Лизу. Он все надеялся, что, может быть, она и сама не выдержит, забежит к нему в кабинет — как-никак, а сколько времени уже не виделись! Однако Лиза всегда была человеком тактичным, стеснительным, старалась никогда лишний раз не подчеркивать свое давнее знакомство, почти родство с Архиповым. Иное дело ее муж, Фимочка Фейгин, — тот ни перед чем не остановится, все шансы использует, чтобы своего добиться, свои интересы отстоять.
И все же, как ни тянуло Архипова к себе в лабораторию, он решил отложить это посещение на самый конец дня. Тем более что Перфильев уверял: дело Гурьянова не терпит отлагательства, слишком много шума оно наделало.
Когда Глеб Гурьянов вошел в просторный директорский кабинет, там, кроме Архипова, находились еще Перфильев и секретарь партийного бюро института курчавый, толстогубый Калашников, добродушно-простецкий вид которого, впрочем, был обманчив. Геннадий Александрович Калашников, ставший доктором биологических наук в тридцать с небольшим лет, отличался завидной целеустремленностью и настойчивостью в любой работе, за которую бы ни брался. Незначительных дел, казалось, для него не существовало. А может быть, потому как раз и не существовало, что он обладал счастливым даром избегать пустяковых дел, лишь отнимающих понапрасну время. Действительно, ведь это тоже, наверно, особый талант — заранее почувствовать, предвидеть, что стоит твоих усилий, а что — нет. Бывают в этом отношении люди прямо-таки фатально несчастливые, невезучие: вечно берутся возводить постройки, в которых, на первый взгляд, вроде бы есть и значительность, и даже грандиозность замысла, а потом выясняется, что это лишь мираж, видимость, все превращается в распавшийся карточный домик. Так что везение или невезение в подобных случаях — это тоже талант, талант предвидения. Помимо всего прочего, Калашников особо прославился в институте еще и тем, что при своем докторском звании участвовал в марафонском пробеге Ленинград — Москва, что тоже служило доказательством его упорства, настойчивости и незаурядной силы воли.
— Здравствуйте, Иван Дмитриевич! С приездом! — сказал Глеб Гурьянов с той веселой независимостью и раскованностью, с какой обращаются друг к другу лишь люди, ощущающие глубокую взаимную симпатию.
— С приездом-то с приездом… — проворчал Архипов, грузно поднимаясь навстречу Гурьянову и подавая ему свою крупную, меченную старческими крупными веснушками руку. — Я вам, между прочим, сборник японской фантастики привез на английском языке, а вы тут, оказывается, и без этой фантастики столько нафантазировали, что теперь и всем вместе не расхлебать… Ну-ка, рассказывайте.
Седые брови Архипова хмурились, но голос звучал скорее добродушно, чем сердито.
Да и ни для кого в институте не было особым секретом, что Глеб Гурьянов принадлежал к числу любимцев Архипова. Ивана Дмитриевича всегда привлекали люди неординарные, пусть даже несколько странные, с чудинкой, но умеющие при этом отстоять, защитить право на эту свою неординарность, умеющие не подлаживаться под остальных, а оставаться собой. Архипов хорошо помнил их первую встречу, когда Гурьянов явился устраиваться в институт на работу.
— Инженер-физик с некоторым биологическим уклоном, — так представился он.
— И что же вас толкает сейчас под этот уклон? — спросил Архипов. — Давайте начнем с прозы. Что вас не устраивает на прежнем месте работы? Зарплата? Отсутствие квартиры? Взаимоотношения с начальством?
— Что не устраивает? — переспросил Гурьянов. — Все вроде бы устраивает. Хотя, если окажется, что здесь будут платить больше, я не откажусь.
— Так, понятно, — сказал Архипов. — Тогда что же все-таки влечет вас к перемене мест?
— Что влечет? Видите ли, Иван Дмитриевич, если взглянуть на ту область науки, которую представляет ваш институт, взглянуть, что называется, трезвым взглядом, объективно, — сказал Гурьянов, — то тогда вольно или невольно придется признать, что эта наука никогда не шла в авангарде. Скорее наоборот. У вас, к сожалению, не было еще ни своих Резерфордов, ни своих Менделеевых, ни своих Эйнштейнов. Если бы ученых, подобно футбольным командам, разделяли на группы, на классы и подклассы, то институт, в который я сейчас так стремлюсь попасть, наверняка определили бы куда-нибудь в класс «Б», не выше…
— Однако же… — изумленно сказал Архипов, с любопытством разглядывая Гурьянова. — Не очень-то вы расщедрились. И что же, вы хотите осчастливить нас теперь своим появлением? Перейти, так сказать, в отстающий колхоз?..