Василь Земляк - Зеленые млыны
— Вон вы какой, Журба…
— Обыкновенный… А Данько мне нравился. Настоящий был солдат. Мы прозвали его Цыганом. За то, что лошадей неистово крал в соседних полках.
— На фронте?!
— Ну, убьют коня или там искалечат. Жди, пока тебе из тыла пришлют. Вот Данько и выручал роту. Да каких жеребцов приводил! Хвост — чик, гриву — чик, и никакой хозяин не узнает. Вот с тех пор, верно, и пошло… А этих то не слыхать…
— Неужто они за несколько дней такого вола съели?
— А родичи, Мальва? У каждого же есть родичи. Куму кусочек, куме кусочек, свату — и весь вол. Да и нам оставили добрый кус…
— Когда?
— Да, я ведь так и не рассказал… Выхожу я тогда, глядь — висит под стрехой. На том гвозде, где ты ключ вешаешь. В мешочке. Кровь еще каплет. Ну что делать? Снял я, посмотрел — первый сорт. Вол то, верно, был с ленцой, не изнуренный, да это и по шкуре видать было — так и лоснилась. Хотел разбудить тебя, затеять царский завтрак… Да и не один. А потом подумал, подумал… И в пруд. Ракам…
— И молчали…
— А чего ж дразнить голодного…
— Странный вы, Федь, ох, какой же странный… Тем и дороги мне, — и Мальва поцеловала его в грудь горячо, горячо, а он смотрел в низкий потолок, пересеченный черной матицей, и не верил. Ну, просто не верил. Ведь разуверился уже было, что есть любовь, и вот теперь преодолевал в себе это неверие здесь, в этой хате на околице, где Парнасенки не познали счастья. Их нужда и невзгоды еще и доныне словно бы жили тут, где даже терн какой то гиблый, только кое где ягодка попадется, один бурьян растет здесь, как из воды. Правда, над родничками, которые Тихон и Одарка копали по очереди, они сажали калину, и кустов ее тут без числа, когда-нибудь они сомкнутся в калиновую рощу.
С рассветом Македонский на бричке, которую прятал в глинище, подался в Глинск, а двое его людей еще неделю сидели в овине. Зеленые Млыны не должны были знать об этой засаде, поскольку Македонский предполагал, что именно они, Зеленые Млыны, а не какие то там дальние или ближние соседи, пользовались овином Парнасенок. Свитлишин воображал себя великим конспиратором, давал строгие инструкции Журбе и Мальве, как им вести себя в тех или иных обстоятельствах, но сам не мог усидеть целый день в овине, выходил глянуть на свет божий, бегал к родничку за водой, и его, должно быть, заметили…
Мешочек, который вытащили из пруда, ничего не дал, на нем не обнаружилось ни инициалов, ни каких бы то ни было намеков на владельца.
Однажды на рассвете Липский прислал за дозорными подводу, и они выехали в Глинск. На прощание Свитлишин постучал в окошко и приложил к стеклу ладонь с растопыренными пальцами. Ои так надеялся схватить преступников, когда туша вола или коровы будет уже разделана, ведь и сам давно не пробовал настоящего мяса, да и хозяев хотелось как то отблагодарить за то, что делились с ним и его товарищем харчами. Завтраки и ужины Мальва все эти дни готовила на четверых. «Слава богу», — сказал Журба, обрадовавшись, что они уехали. Липский, конечно, мог бы им помочь в пропитании, но тут надо было как то обойти Сильвестра Макивку, который и так уже прослышал своим музыкальным слухом, что в Зеленых Млынах от него скрывается какая то посторонняя сила, и не знал только точно, сколько их там. Сильвестр был из тех лемков, которые превыше всего ставят честь своих единоплеменников и все их недостатки надеются исправить лишь с помощью божественной музыки. Еще Фабиан как то сказал по этому поводу, что все великие музыканты склонны идеализировать своих слушателей, и когда играют для них, то, верно, думают, что играют для самого бога. Но ведь и дьяволы любят слушать музыку, б особенности если они не голодны.
Каждый вечер мне приходилось забирать из стада корову, дедушкину Фасольку, собственно, уже и не корову, а лишь живое воспоминание о ней, мослы так торчали из шкуры, что хоть ведра вешай, как на коромысле, рога тоже совсем окаменели и смахивали на два омертвевших отростка, а вымя от многолетнего ношения молока опустилось так низко, что могло умываться в росах даже на малотравье. Обязанность сопровождать такое животное через все Зеленые Млыны была не из веселых, к тому же Фасолька то и дело останавливалась передохнуть, и тогда сдвинуть ее с места было дочти невозможно, а бить такую великомученицу почиталось за издевательство не только у индийцев, но и у лемков. Коровка была рябенькая, но не черно белая, как большинство рябых, а малиново белая, и притом одна масть не подавляла другую, и обе были так славно скомпонованы, что глаз просто отдыхал на них. Такой гармонии, конечно, могла достичь только природа, заранее позаботившаяся и о красках, и о рисунке. И вот как то раз Фасолька остановилась посреди дороги отдохнуть, а я стою себе сбоку и любуюсь ее расцветкой на фоне хлебов. Малиновая краска сливается с вечером, а белая — с нивой, так что очертаний коровы почти не видно, только одни краски, наложенные как бы нехотя, да еще крупными мазками. Ясное дело, издалека такая картина производит сильное впечатление.
Как вдруг прямо на нас летят двое на колах: Лель Лелькович в белом, а за ним Папя. Не па колах летят, а на крыльях, на одном вдохновении летят. Уже слышен скрежет спиц переднего велосипеда, а Фасоля стоит как вкопанная, и все мои попытки сдвинуть ее с места тщетны. Лель Лелькович в последнюю минуту сворачивает в горох и падает там, а Паня, смеясь, проскакивает с другой стороны, по самой меже, оставив на коровьем рогу серебряные ниточки своего смеха — я заметил их, они звенели, хотя это могли быть и просто степные паутинки, которые паук подпасок ткет вечером на рогах. Совершив диверсию против моего директора, корова сразу же двинулась дальше, и теперь за ее проступок должен был отвечать пастух. Я подумал: как мало коровы знают о своих пастухах и об их отношениях с человечеством! Лель Лелькович выбрался из гороха, его белая сорочка стала на локтях совершенно зеленой (к счастью, сам он этого видеть не мог), о корове он не проронил ни слова, а ко мне, отдавая мне должное, как представителю Вавилона, обратился со словами, дошедшими до нас с пира Валтасара, — суть их тогда еще оставалась для меня загадочной: «Мене, текел, фарес» и, засмеявшись, добавил: «Так то, парень…»
Местное название велосипеда.
«Сочтено, взвешено, разделено». По библейской легенде эти предостерегающие слова начертала невидимая рука на степе во время пира вавилонского царя Валтасара (V в. до н. э.). На другой день Вавилон был захвачен персами, а Валтасар погиб.
Потом он оттолкнулся одной ногой, держа другую на педали, разогнал велосипед, и тут я с ужасом увидел, что белые чесучовые брюки на самом деликатном месте того же цвета, что и локти. Лучше бы ему вернуться и переодеться в чистое, но оп помчался догонять Паню, а я побрел за коровой, раздумывая о том, что на экзаменах Лель Лелькович непременно завалит меня по истории Вавилона, иначе зачем бы ему произносить эти загадочные слова, возникшие две тысячи лет назад. А Паня, верно, меня не узнала, она вся была поглощена заботой о том, чтоб не налететь на корову. На ней была зеленая юбка, ноги в белых лодочках, загорелые, колени словно подернуты туманцем, черную косу она вынесла наперед и обернула вокруг шеи, как шаль, иначе коса могла попасть в спицы заднего колеса. Я бы сгорел со стыда, упади и Паня в горох из за моей коровы.
За гороховым полем они повернули на заводской тракт, который вел в Журбов, к сахарному заводу. Туда время от времени привозят кинофильмы, и Лель Лелькович не пропускает ни одного.
Доведя корову до яслей, я поинтересовался у бабки Павлины, почему дедушка не завел велосипеда.
— Было, — сказала Павлина, пряча улыбку в уголках губ. — Из за этого кола меня и выдали за него в Зеленые Млыны. В наших Паньках такой диковинки тогда еще не видывали. А как дед умер, я подарила его Лелю Лельковичу. За надгробную речь про деда.
— За одну речь? — я чуть не заплакал, представив себя на велосипеде рядом с Паней, точнее, Паню впереди себя на раме, как иногда ездят парни в Зеленых Млынах.
— Так ведь за какую! Все плакали… — сказала бабка Павлина и, кинув в подойник щепотку соли, пошла к Фасольке. Коровка уже не различает вкус трав, ест на пастбище полынь, и молоко от этого стало такое горькое, что пить его можно только через силу, хотя бабушка расхваливает его как может, говорит даже, что молоко с полынью целебно, все равно что евшан зелье, которое ведь тоже — душистая полынь.
Еще одно название полыни — емшан или евшан (из чагат., туркм. jaušan). Это слово упоминается в Ипатьевской летописи под 1201 годом.
Возвращались они поздно. Я стоял под шелковицей у самой дороги. В дедушкином велосипеде цепь шла с пропусками, и Лель Лелькович заметно отставал от Пани. Звезды убегали от меня в никелированных ободах велосипедов, о чем то тихо шептались белеющие хлеба, за которыми виднелись черные трубы мельницы. Когда они задымят, Зеленые Млыны сразу заживут другой жизнью, еще неведомой для меня. До сих пор с самой весны трубы еще не дымили ни разу. Лель Лелькович, верно, проводит Панго до дому.

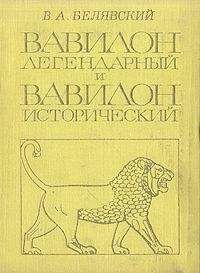


![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/uploads/posts/books/54853/54853.jpg)