Василь Земляк - Зеленые млыны
Липскому пришло в голову не отрывать для сбора черешни взрослых, а обратиться к услугам «белок» — старшеклассников.
Речь шла, в сущности, о том, что эти маленькие верхолазы съедят меньше ягод, чем взрослые. Липский так им и сказал: «Черешни у нас много, ешьте сколько можете, но только — пока сидите на дереве. На земле есть нельзя, а домой — то, что получите на трудодни». И еще предупредил, что если объесться черешней на дереве, то от нее может стать дурно, и бывали случаи, что дети даже падали с деревьев неведомо отчего.
Так нам выпало собирать черешню в саду у Власто венок. Это был уже старый большой сад, занимавший громадный бугор; внизу на лугу рос орешник, а черешни были на горе, неподалеку от хаты, где жили хозяева: мать, которой мы так в тот день и не увидели, хотя нам всем хотелось повидать бывшую служанку Гордыни, Паня и муж ее, Микола Рак, который служил кочегаром на паровозе и все пропадал в рейсах, а сюда наведывался изредка. Говорят, он высок. и тощ, высох возле паровозных топок… Отец его, старый Рак, служит будочником на перегоне, но сам отсюда, из Зеленых нов, и вроде бы доводится Властовенкам дальним родственником. Одно известно точно: Раки издавна были безземельными, ходили в батраках, а потом, когда проложили чугунку, бросились туда искать счастья для своего рода, захватили немалый участок пути — от Пилипов до Мансур, — но выше будочника там не подымались. Зато на всех разъездах, во всех будках — одни Раки, и старые уже, усатые, сгорбленные от железных ломов и кайл, и помладше, те, что ходят каждую субботу за пять, а то и за двадцать километров к лемкам в клуб, потом на ходу вскакивают на подъеме в ранние поезда и едут из клуба к своим будкам, где растят детей видимо невидимо, и все для той же чугунки. Таким вот привычным способом и «выходил», точнее, «выездил» Микола Паню Властовенко, женитьбу иа которой Раки рассматривали вроде бы как месть Гордыне за презрение к их роду племени. Микола не просто полюбил Паню, или, как ее звали здесь, Паньку, — он любил возвращаться из поездок в ее огромный сад, который до созревания белой черешни оставался без сторожей и потому мог считаться владением Властовенок, что же до хаты, то ее молодой Рак не брался ни восстанавливать, ни ремонтировать, она вросла в землю по самые окна, только овин на фундаменте высился до небес, словно и вся хата на нем держалась. Микола увлекался радио, использовал высокую кровлю овина для антенн, поставил там несколько мачт и оплел всю дряхлую лачугу густой сетью проводов, на которые предстояло ловить для Пани таинственную музыку Вселенной. Сами по себе провода выглядели бы просто бессмысленным сплетением, не будь на мачтах белых фарфоровых изоляторов, от больших до самых маленьких, которые придавали им некую высшую гармонию и целеустремленность и на которых провода скрещивались и над овином, и на деревьях, и даже на тех черешнях, куда забрались мы с полотняными сумками на шеях.
Командовал нами Куприян, садовник и огородник, такой же скряга, как и Липский, старый холостяк и ворчун (он то и дело о чем то недовольно шептался сам с собою), новоиспеченный мичуринец, который в Зеленых Млынах ничего особенного не вывел, но гордился воей перепиской с Мичуриным; в собственном саду он выделывал с деревьями разные фокусы и в конце концов изувечил почти все деревья, заставляя груши становиться яблонями, а яблони — грушами. Лель Лелькович каждую весну приглашал его для очистки школьного сада, заодно он давал нам несколько уроков прививки растений и в это время тоже что-то недовольно бубнил, должно быть, жаловался на нашу невосприимчив вость и неспособность усвоить этот старый как мир процесс, известный еще со времен вавилонских садов Семирамиды. «Тьфу!» — приходил он в бешенство к концу каждого урока, складывал свой садовничий нож, который носил на цепочке у пояса, зачесывал белую кудель на голове, взмокшую под шапкой с пропотевшим днищем, крутил усы и говорил нам: «Темнота. Только и знаете, что собирать в чужих садах, а сами не сотворите на этой земле ничего великого, кроме себе подобных. Ступайте, слушайте своего Леля Лельковича, а меня уже ждет товарищ Липский». Ходил Куприян рысцой, семеня в такт своему бормотанью. Очевидно, бубнил он что-то несусветное и бессмысленное, просто ему нужен был аккомпанемент для такой беготни. Из за этой беготни он, естественно, не мог на протяжении всей жизни заметить ни одной женщины, хотя и говорят, что в свое время любил Панину мать, когда та еще служила у Гордыни. Если и любил, то, верно, без взаимности, а так, как любят деревья. Ты можешь смотреть на него, любоваться им, даже восторгаться, а оно любит соседнее дерево, либо дерево в другом саду, по ту сторону пруда, либо на том берегу реки, а то и на другом краю Зеленых Млынов. Эту любовь оплодотворяют пчелы, когда сады цветут, а пользуются плодами этой любви трутни… Сейчас Куприян как раз и бубнил скорей всего об этой любви деревьев, перебегая от черешни к черешне и понося нас за ненасытность. «Эй, когда же вы начнете наконец для колхоза собирать?» Косточки падают в траву, а то и ему на шапку, от этого он и вовсе приходит в ярость, грозит кулаками, кричит: «А, чтоб вам пусто было, только и знаете, что лопать!»
Черешни были крупные, как яйца удода, желтовато белые, прозрачные, душистые, еще прохладные с ночи, глотать такие легко, приятно; несколько дней шли сплошные дожди, обмыли их, наготовили для нас, и потому сумки на шеях наполнялись медленно и лишь тогда, когда тело стало уже не способно ни к движениям, ни к работе и тянуло только упасть па землю (как и предупреждал Липский) и полежать вверх пузом на прохладной садовой траве. На деревьях, в ветвях не слыхать уже было смеха, утихла веселая перекличка, умиротворенные наши души жаждали покоя и тишины, и теперь бормотанье Куприяна доносилось снизу, как жужжанье разозленных шмелей, наводя на нас сон, в то время как мы должны были отработать за нанесенный колхозу убыток. А тут еще как раз под мое дерево пришла Паня с миской и говорит Куприяиу:
— Дядя Куприян, мама больная лежит, хочется ей черешен, просит у вас…
— У ней есть трудодни?
— Какие же трудодни? Говорю вам, больная. Не встает с крещения.
— Я ие врач, а садовник. Оставь мисочку, потом принесу. Только чтоб Липский не знал. Тут каждая бу бочка на трудодни. Я еще и сам не попробовал, какие они есть, черешни эти. Но больной, ясное дело, не могу отказать. Оставь мисочку. Оставь. Вон там в бурьяне…
Паня поставила обливную мисочку на траву, постояла еще, подняла голову, и наши взгляды встретились. Глаза у нее были большие и печальные, похоже, карие, а может, и темно синие, излучали они тихое и даже холодное пламя, кажется, я уловил его на миг сквозь чащу ветвей. Все это длилось одно два мгновения, потом она опустила глаза и уже собралась идти, оставив миску в траве, но я — уж и сам не знаю, как это случилось, — остановил ее.
— Стойте! Не уходите!
— Это вы мне? — заколебалась она.
— Стойте. Я сейчас…
Пока слезал, я и сам испугался, а Куприян так и ел меня глазищами, не понимая, для чего я спускаюсь с черешни; ведь у каждой, сумки есть веревочка, на которой ничего. не стоит отправить вниз полную кошелку; и поднять обратно пустую, когда Куприян опорожнит ее, а на черешню взбираться не так то легко — ствол у нее высокий и кора скользкая, словно смазана салом. Но я слез, снял сумку с шеи, подошел к мисочке, высыпал туда черешни и подал Пане, как дар души, озаренной ее взглядом. Паня стояла, заметно смущенная и даже растерянная, глаза ее смотрели куда то поверх меня — да, они и в самом деле были темно синие, а шея высокая, белая, как лилии на пруду, под батистовой кофточкой тревожно дышала грудь, Паня плакала.
— Поставь, — сказала она. — Дядя Куприян потом принесет… — Повернулась и пошла прочь, высокая, прямая, с черной косой, достигавшей чуть ли не подола юбки. Я остался стоять с полной миской, черешни скатывались одна за другой в траву и становились там слезами, потому что, когда я снова надел сумку на шею и хотел их собрать, их там уже не было. Куприян сказал мне:
— Ты вавилонский, а ведешь себя так, будто сам их сажал. Ишь, благодетель! Сымай торбу и можешь идти.
— Почему, дяденька?
— А потому что обидел человека. Тычет ей мисочку ягод…
— Так ведь там же больная…
— Слепой, что ли? — продолжал, не слушая, Куприян. — Видишь же, что я одну черешню не обрываю. Вон ту, самую лучшую. Им оставляю, им. А он, чудак, сует ей мисочку. Тьфу! — Куприян сплюнул. — Не стану ж я при всех ей объяснять. Говорю — оставьте мисочку, я потом принесу. Научился там, в Вавилоне, выскакивать, где не просят. Уйди отсюда, пока я не остыну. Поди на пруд, посиди, дай отойду. Ва ви ло нянин!..
Я ушел. То тут, то там спускались на веревочках полные сумки. Куприян бегал, как чумовой, от одной к другой, отвязывал, высыпал черешни в ящики, на которых была печатная этикетка с кистью белой черешни. Я сидел на пруду и никак не мог сообразить, за что меня выпроводили из сада. Из воды мне словно бы сияли глаза Пани, и на душе не было никакой горечи, а, напротив, явилось там нечто высокое. Мысли все вертелись вокруг нее, и пришло в голову, что будь я таким красивым, как наш директор Лель Лелькович, я непре. менно влюбился бы в Паню. Тогда я еще не догадывался, что это и была моя первая любовь, которой долгие годы суждено было ждать взаимности.

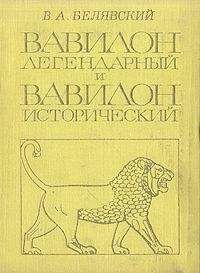


![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/uploads/posts/books/54853/54853.jpg)