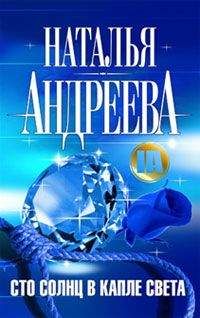Петр Скобелкин - На заре и ясным днем
Нет, не на другой день и не на другой месяц после Победы был подписан этот приказ, а спустя полгода. И это не просто инерция, что ли, своеобразная: люди привыкли к военному ритму и не могли сразу, вдруг изменить его. Победа принесла величайшую человеческую радость, но она была бессильна изменить мгновенно положение дел в Крутых Горках. Война окончилась. Но она присутствовала, жила в запущенном поле, в доведенных «до ручки» механизмах, исхудавшей скотине, она смотрела со стен далекими глазами не вернувшихся солдат. Вот почему полгода потребовалось директору совхоза для того, чтобы собраться с волей и сердцем и подписать первый приказ об отпуске только глубокой осенью 1945 года.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Они собрались дружно, ветераны «Большевика», и сидят рядышком, вспоминают минувшие дни.
Кто-то вдруг замечает как бы между прочим:
— А ведь в восемьдесят первом-то «Большевику» пятьдесят лет будет…
— Нам уж, видно, не дожить, — спокойно машет рукой дядя Гриша, Григорий Фролович Чиняев.
— Доживем! Мы еще в тот день на первой лавке сидеть будем.
Потом начинаются воспоминания.
Среди них одна женщина — Марфа Васильевна Сапогова. Она и начинает неторопливый рассказ:
— Что вспоминать?.. Осталась я сейчас одна. Да что я? Вон у Григория Ивановича у Димитрова четырнадцать детей было, а осталось только пятеро — всех война подчистила. Девятерых взяла война. Одних — пули, других — голод…
Григорий Иванович сидит рядом. И с гордостью и тихой, непонятной радостью смотрит на меня, оглядывает всех нас. А мне от этого как-то не по себе — ведь такое горе. Но вот заговорил он, и все уважительно закивали головами. А он говорил без печали, будто довольный своей суровой судьбой:
— Четверо из пяти-то, четверо, но как — с высшим образованием!..
А я слышу: «Четверо из четырнадцати, четверо», — вот ведь как!..
Спрашиваю Григория Ивановича:
— Где же они сейчас?
Молчит. О чем-то вдруг задумался, зацепило что-то, видно, за душу старого человека. Говорит негромко, со вздохом:
— Уехали. Все разъехались… Один я. Один как есть…
И снова слышу глухой голос Марфы:
— Война… Неизвестно, где могилы многих наших солдат… Федор Данилович Федоров погиб под Ровно, Иван Данилович Шалагин сложил свою голову у стен Сталинграда. Геннадий Александрович Овчинников сражен на Белгородско-Курской дуге.
Не стало семьи у Алексея Андреевича Шулыгина: все три сына, Григорий, Дмитрий и Гаврил, не вернулись.
Марфа Васильевна поправила платок и продолжала свою невеселую исповедь:
— И получилось, что в совхозе остались одни мы, бабы. Мужиков совсем почти и не видно. Да ребятишки. Везде и управлялись — и в мастерской с железяками, и в гараже на машинах, и с лошадью за плугом, и на току с мешком на спине. Все правда, как в приказах написано, — и на лошадях ездили, и на коровах боронили, круглые сутки дома не появлялись: днем на чурке, а вечером на току. На сушилку скоро помощников поставили, пять человек. Малые да глупые: и четырнадцати-то еще не было! Только и глядишь, чтоб под пилу не угодили. У меня в бригаде было пять таких «мужиков». Да голодные еще эти мужики-то.
А как ни худо было, все равно все шло по складу, как и надо: и хлеб давали, и ребятишек учили. И они, может, на нас глядя, на «хорошо» учились. Это на одной картошке-то! Чернила сами себе делали из сажи да из свеклы. А писали на старых книгах, прямо по напечатанному большими буквами.
Бывало, в школу собирают, а одеть на ребенка нечего, ну совсем нечего. Вон Ивановна, — кивает Марфа Васильевна на Степанову, — все отдала на фронт, что на картошку променяла… Тут пришло время дочку в школу вести, а одеть не во что. Сняла тогда со стола старую застиранную скатерть и сшила из нее платье. В нем и отправила. Так она в этой скатерти всю зиму и проходила в школу…
— Тут еще вот в чем дело, — осторожно прерывает Марфу Васильевну Михаил Иванович Першин, — нынешняя-то молодежь мало знает про это. Нет, я не упрекаю ее за это, тут и мы виноваты. Все молчим, все в себе носим…
И получается, что молодые мало представляют, как мы в войну управлялись. И каково тогда было нам! А особенно женщинам. Ведь тогда, если признаться, все на них держалось, весь наш тыл.
Я тогда на Дубровном работал. Нас там, мужиков-то, всего двое было — я да мой напарник. Да и мужики-то мы были не самого первого сорта — излом да вывих.
Кого на трактора садить? А ребятишек. Некого больше.
Бывало, утром проверишь трактор, смажешь что надо, расскажешь, покажешь, а потом подсадишь мальца в кабину. А они хоть и малы, но смышлены были. И говоришь ему: «Поезжай, голубчик». Он и поскребется. А сам следом за ним. Глаз не спускаешь. Так вот и ползаем вместе дотемна. Потом мальца отпускаю домой, а сам знай погоняю свою железную лошадку…
— А в девятом, десятом классах мы уже считали себя совсем взрослыми, — продолжает Дмитрий Дмитриевич Пономарев. — Мы тогда все хотели на фронт. Помню, написали коллективное письмо в военкомат: желаем идти на фронт добровольцами. Нас, конечно, тогда не взяли. Правда, чуть позже десятиклассников приняли в школу авиамехаников в Кургане. Многие из них ушли на фронт.
В разговор вступил дядя Гриша — Григорий Фролович Чиняев.
— А вот хоть как и ни было трудно, как тяжко ни приходилось нам, а находили время и еще и пели. Да еще как пели!
Были у нас заводилы — Зоя Ивановна, секретарь комсомольской организации, и заведующая клубом Гита Григорьевна Шулькина из эвакуированных.
Так у этой Гиты Григорьевны трое детей. Сама голодная, дети голодные, а она поет. На мандолине играет. Струнный кружок организовала. Духовой-то не могли наладить, видно, духу не хватило дуть в трубы-то. А так-то тренькали по струнам. Да и весело тренькали.
И выступали с концертами. Здесь, в Крутых Горках, то есть на нашей центральной усадьбе, да еще и ездили на отделения — в Карачелку, в Дубровное. А ехать не на чем, так и пешком — балалайки под мышку — и потопали. Это после одиннадцати — двенадцати-то часов работы!
Спрашиваю: а как встретили в «Большевике» День Победы? Марфа Васильевна оглядывает всех, как бы спрашивая у них согласия, и негромко повторяет мой вопрос: «Как встретили?» Затем продолжает:
— Хоть и ждали, хоть и верили и знали, что вот-вот конец войне придет, а когда объявили по радио, что вот он, конец-то этот, так вроде ошалели.
И опять все бежали, бежали и кричали: «Победа! Победа!» И я бегу со всеми и тоже кричу: «Побе-е-да!» А сама смеюсь и реву. Только и в тот раз мы знали, куда бежать, — к памятнику Ленину. А рядом стоят мужики и курят. Только это уже не те мужики — у кого пустой рукав в кармане, у кого нога деревянная. Стоят, значит, и курят. Молчат. Только курят. А ведь видно же все, табак совсем не тот. Совсем не тот табак…
Потом у памятника на заступочек встал тогда наш директор Косарьков (Соломенник как ушел в армию, так больше и не вернулся), снял свою фуражку и сказать что-то хотел, да не смог, видно, не совладал с собой и просто закричал: «Ура-а-а!» И мы все тоже кричали: «Ура!» А кто-то принес ружье и пальнул кверху. А я подумала, что ни Саша, ни Коля никогда больше здесь не будут…
Так кончилась война.
И ЯСНЫМ ДНЕМ…
Победа, выстраданная и завоеванная потом и кровью, принесла и радость и печаль. Печаль об ушедших в бой и не вернувшихся оттуда.
Кончился последний военный год, и над теплой землей буйно цвели вдруг воскресшие яблони.
Однако весна не приготовила много радости. Земля была истощена, люди измотаны, техника пришла в разнос. И по-прежнему было голодно. Еще действовали хлебные карточки. Недоедали дети.
С фронта вернулись немногие. Да и те, вернувшиеся, были, как тогда говорили, «излом да вывих».
Подошла пора сеять. Время ответственное. Как-то оно пройдет?
Так уж сложилось, что совхоз «Большевик» был чем-то вроде барометра. Барометром настроения людей, их мерой ответственности. Хорошо идут дела в «Большевике», доброе настроение в Шумихе, во всем районе. Застопорилось что-то в совхозе, хромает на обе ноги весь район. А Шумихинский район в Курганской области очень заметный. На него оглядывались и другие.
И вот едет в Шумиху, а оттуда, разумеется, и в «Большевик» Геннадий Федорович Сизов, в то время первый секретарь Курганского обкома партии, ныне председатель Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС.
Об этой запомнившейся надолго поездке он и сейчас вспоминает с невеселым настроением:
— Весна в тот год выдалась ранней, в апреле уже хоть сей. А на дворе уже май… Еду я, значит, по районам, — вспоминает Геннадий Федорович. — А в степи тихо, жутко — ни трактор не тарахтит, ни машина не пройдет. Почва уже прогрелась, зерна просит, марево струится над теплой землей. Но стоят тракторы! Не идут машины. Молчат, будто умерли — запчастей нет! А в иных бригадах и тракторов-то вообще не было.