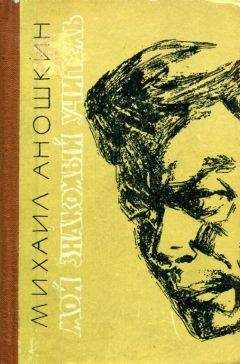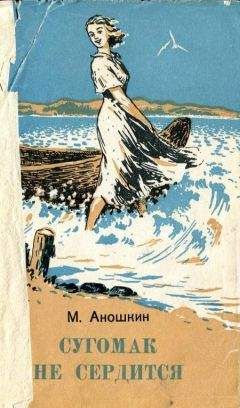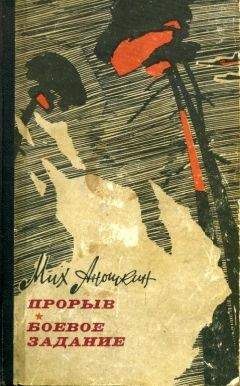Михаил Аношкин - Покоя не будет
Олег Павлович терзался — чего же он, в самом деле, канитель разводит? Чувство к девушке настоящее, ведь не настоящее не жжет сердце, не горячит мозг, не волнует желание!
Собрание между тем продвигалось своим чередом. Тоня села, доярки выступать не решались. Как выступать?
Тоня обтерла платочком губы и принялась теребить его кружевную каемку — ждала, что скажут подруги. Пальцы сильные, натруженные. Хоть и стали доить коров машинами, физической работы делать приходилось еще много, и лопата каждый день в руках была и вилы.
Тоня мягким, плавным движением заправила под платок выбившиеся у виска волосы, и в тот момент, когда рука была у виска, пользуясь ею, как заслоном, быстро метнула взгляд на Олега Павловича. Он сумел перехватить его, их взгляды скрестились. У него с новой силой поднялась в груди жгучая буря.
Из оцепенения вывел Медведев.
— Спишь? — пробасил над самым ухом.
— Нет.
— Из-за этого приехал?
— Да.
— Ярин погнал?
— Сам.
— Это ты наябедничал про коров?
— Побойся бога, Иван Михайлович!
— Ладно. Я на тебя погрешил.
— Это Беспалов жаловался.
— Семен?! — удивился Иван Михайлович. — Да не может быть!
Выступала доярка Антонова, ей уже сорок, но стар и мал продолжает ее звать Груней. Насмешливая. Художники страшно любят рисовать таких — разрумяненных толстушек. Юбка подоткнута, руки вставлены в бока, улыбка до самых ушей, лицо лунообразное, а щеки что тебе два спелых яблока. Этакая деревенская фея — кровь с молоком и сила мужичья.
Груня принялась вспоминать давнее, как к ним в первый раз привезли карбамид и они не сразу догадались, с чем его едят. Вспомнила подругу, которая сдуру чуть было тоже не наделала беды с карбамидом, как его еще там зовут — мочевиной. Придумают же — мочевина!
— Погоди же! — говорила Груня. — Да ведь никак с тобой, Нюсь, тогда приключилось-то.
— Память у тебя короткая, Груня! — крикнула Нюрка. — С Серафимой то было!
— Как же это я — конечно с Серафимой! Совсем выбило из головы.
Медведев морщился, морщился и не выдержал:
— Погоди, Антонова, зачем это нам сказки про белого бычка рассказываешь?
— Уж коль собрал нас, слухай тогда, нечего сбивать меня с толку, когда надо, я сама собьюсь.
— Все-таки ближе к делу.
— Я ближе тебя к этому делу, слухайте со своим бригадиром и на ус мотайте. Я, может, сейчас хочу Зыбкина Никиту в холодной воде выполоскать, чтоб он кудри свои поберег.
Доярки заулыбались — у Зыбкина Никиты на макушке матово поблескивала плешь.
— Не смешно, — сказала Груня. — Полотенца кто обещал, ну, кто? Где они? А халаты. Так у нас разве халаты? Эти халаты на обтирку пора. Что не так? Нет, ты скажи, Иван Михайлович, не так?
— Так, так, — подтвердил Медведев, — только ты, Антонова, все же закругляйся. Если мы тут начнем обо всем говорить, разговоров до утра хватит, вам же коров доить-поить надо. Вы мне ясно скажите, что делать с Тоней Зыбкиной, меня интересует ваше мнение. Про полотенца и халаты не забуду, вернемся потом. Вы хотите, чтоб я ее под суд отдал или не хотите? Пока я с вами советуюсь, как лучше из положения выйти. Испортить девушке жизнь, особенно такой красавице, как наша Тоня, — ты не красней, чего краснеешь? — легче легкого, но как все-таки быть, если она провинилась? Как?
— Оно, конечно, — согласилась Груня, — дело тонкое. Мы судили-рядили, и суждение наше такое, вы там как хотите делайте, а на наше разумение надо так: записать Тоньке выговор, да который построже, пусть глазами наперед не хлопает.
— Ладно, так и быть, — согласился Медведев.
— Да после этого дать ей десять нетелей, чтоб она их довела до коров, да чтоб хорошо довела.
— И это в наших силах.
— А уж молочко от тех десяти буреночек мы возместим сообща. А что? Вот хошь с сегодняшнего дня — на десять пропащих молочко дадим сверх плана. Или не дадим, бабоньки? С кем греха не бывает? Ну с кем, ну поднимись хоть одна, с кем греха не случится?
Доярки заговорили наперебой, враз, и Медведев не унимал — пусть покричат, а накричатся — умолкнут сами. Когда гвалт мало-помалу стих, Серафима, жена бухгалтера Малева, тщедушная остроносая женщина, возразила:
— Чегой-то я подрядилась? Она там глазки кому-то строила, не о коровах думала, я же за нее нагрузку буду иметь?
Груня Антонова резко повернулась к Малевихе, свела у переносья жиденькие брови. Олег Павлович подумал, что Груня сейчас отчитает Серафиму, под орех разделает. Доярки затаились — тишина гнетущая пала, слышно было, как во дворе Федька-гармонист орал на кого-то:
— Куда прешь, стерва, куда ето ты прешь?
Но тут же вскочила Нюрка Медведева. Олег Павлович даже зажмурился. Ну, сейчас держись, начнется катавасия. Вспомнит Нюрка ухаживания своего муженька, и попадет Тоне ни за что ни про что. Сунуло же эту Малевиху с возражением, ведь так хорошо получалось. Нюрка стащила с головы платок, тряхнула своими кудрями, и весело, но с ехидной подковыркой прокричала:
— Ой, правильно, Симочка, очень правильно! Зачем тебе лишняя нагрузка, ну, прямо ни к чему, правда ведь, девоньки? Освободим ее от нагрузки, все равно же от нее проку не будет, освободим, а?
— Освободим! — поддержали ее доярки, а Малевиха пробормотала растерянно:
— Я что? Да я не против… Да я так…
— Нет уж освободим! — жестко, словно приговор, произнесла Нюрка и села. Груня сказала:
— Я же всегда говорила: молодчина ты у нас, Нюся, — и к Медведеву:
— Так и запиши, Иван Михайлович, вот тебе наше слово, коль ты за этим словом к нам пожаловал.
И села.
— Ладно, — резюмировал Медведев, — быть по-вашему: Зыбкиной дать выговор, выделить ей десять нетелей, а молоко от десяти пропавших коров компенсируйте всей фермой. Так? — повернулся он к бригадиру. И Зыбкин Никита подтвердил: — Так!
— Для порядка проголосую, дело сами знаете какое, чтоб потом никто не сказал: навязали. Кто за предложение Антоновой, прошу голосовать.
Руки поднялись дружно. Лишь Серафима не решалась: голосовать или нет? Маялась. Как-то Лепестинья Федоровна на полном серьезе сказала, что у Малевихи дурной глаз. Посмотрит, скажем, на кого — с тем хворь приключится, заговорит корову — молоко исчезнет. Олег Павлович пристыдил Лепестинью Федоровну, зачем же она такие глупости говорит. А та рукой махнула:
— За что купила, за то и продаю.
Но видать — Малевиха злая, такая за копейку глаза выцарапать может. Нос у нее крючком, про такой говорят — в рюмку смотрит.
А вообще-то ничегошеньки Олег Павлович о Серафиме Малевой не знал. Только от людей и наслышан. У нее свой мир, свои понятия о справедливости, она ведь, наверно, и улыбаться умеет и радоваться тоже. Или Нюрка, или другие? Ты знаешь, почему Малев любит подковырки? Почему Нюрка Медведева горой встала за Тоню, а ведь ревновала ее к мужу? Почему вот Зыбкин Никита за все собрание обронил только одно слово и то, когда его спросил Медведев? Почему он молчун? Ты знаешь? Нет. Зачем тебе все это знать? Ты не писатель. Отговорочки, Олег Павлович, Максимка бы сказал: не юли, брат, перед самим собой. Разве только писателю надо это знать? А партийному работнику не надо, так выходит? Если ты этого знать не будешь, то зачем вообще-то нужен? Хозяйством руководят специалисты, за землей ухаживают хлеборобы, заводы строят строители. У тебя какая специальность? Люди. А много ли ты о них знаешь, хорошо ли ты их понимаешь, так ли к ним подходишь? К примеру, что ты знаешь о Ярине? Нет, погоди, вернее, что он знает обо мне? Одно — ты в его аппарате рабочая единица, я должен выполнять его волю. Медведев в этом смысле больше партийный работник, чем Ярин. Вот черт, опять отвлекся. Уводят всякие мысли в сторону, самое интересное прослушать можно.
А Серафима все еще морщит лоб, соображает, как же ей выкрутиться. Когда доярки руки опустили, она вдруг несмело подняла свою. Медведев спросил:
— Ты против, Малева?
— Я тоже… За всех…
— Вовремя надо голосовать, а то непонятно.
Тоня вдруг вскочила и, низко наклонив голову, побежала к выходу. Из заднего ряда поднялась пожилая женщина, и Ивин узнал в ней Прасковью Ильиничну Зыбкину, мать Тони, знаменитую во всем районе овощеводку. Она все собрание просидела тихо, ее, пожалуй, не все видели, сейчас вот поднялась, прошла вперед, к сцене. Повернулась к собранию и низко-низко ему поклонилась. Сказала дрогнувшим голосом:
— Спасибо, люди добрые. Спасибо за хорошие слова. И тебе спасибо, Иван Михайлович, — она поклонилась и ему, — спасибо, что совета у народа спросил.
И направилась к выходу, ссутулившись. Груня вдруг закрыла глаза платком и виновато призналась:
— На мокром месте глаза-то у меня, прямо делать с ними не знаю что.
Ивин вышел из красного уголка вместе с Медведевым. Смеркалось. Дождь перестал. Иван Михайлович спросил: