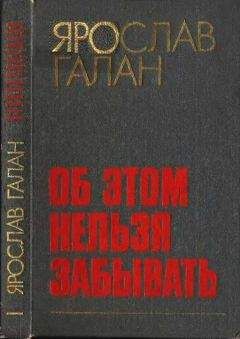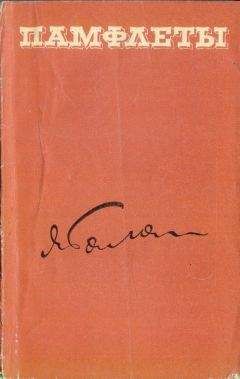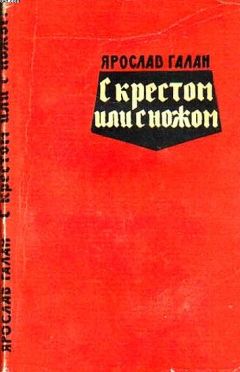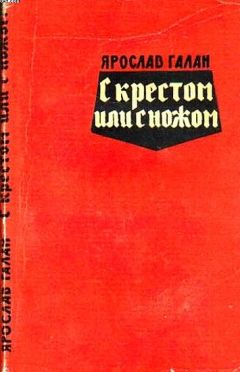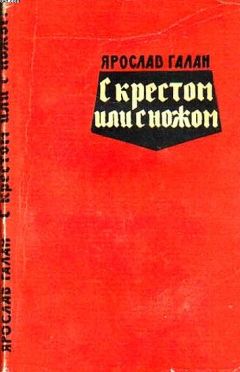Валентин Катаев - Том 2. Горох в стенку. Остров Эрендорф
— Скажите, как пройти на Тверскую?
Он с трудом разодрал обледеневшие усы и жалобно ответил:
— Я приезжий. Но, быть может, вы знаете, как мне найти квартиру известного писателя? Это где-то здесь, поблизости, я уверен, но я забыл улицу и номер.
— Пятый дом налево. Торопитесь. Злоумышленники похищают вашу корзинку и чайник.
Он дико вскрикнул и кинулся во мрак.
Я закурил и, весело насвистывая «Интернационал», пошел дальше. Я шлялся по метели битых два часа, но никто не мог указать мне, как попасть на таинственную улицу. Не менее десятка прохожих застенчиво говорили:
— Я тоже приезжий. Но, быть может, вы знаете, как мне найти квартиру известного писателя?
Положительно Москва была населена провинциальными гостями моего столичного друга.
Улица сменялась улицей. Москвичи отсутствовали. Толпы «нездешних» двигались в этой великолепной ночной путанице светящихся циферблатов, косого снега, пылающих вензелей кино и загадочных слов «Моссельпром», выбитых электрическими гвоздями в черном небе.
Остальное вам известно.
IIIЯ проснулся. Я вернулся из обратной перспективы неизвестно в котором часу утра и неизвестно где. Забыл.
Я лежал на сундуке. Вся комната была заставлена примусами, бидонами, змеевиками, бутылями. Это была очаровательная химическая лаборатория, небольшое предприятие на полтора ведра в день. Четыре примуса дружно гудели четырьмя синими розами, полными пчел. Окно было заставлено шкафом и завешено тряпками. Лампочка слабого накала горела сбоку мертво и угнетенно. Великая блудница деловито ползала меж синих роз с иголкой и, вся в пламени, звенела пожарными касками примусов. Стеклянные стрекозы меркли над бидонами. Подо мною, в сундуке, слышалось сладкое сахарное брожение и посасывание. Там, в кадушках, под подушками шипела сахарная брага. Дубовый солдат возился с ведрами.
«Они» встали чуть свет.
Когда еще на улицах было пусто и розово, в утренний час белых столбов дыма и липовых толстых лопат дворников, румяная бабенка Дуняша и ее сын Андрейка звенели в прихожей бутылями и шушукались с великой блудницей. Они положили в мешок товар, погрузили его на салазки-ледянки и двинули (от ворот поворот) по крепкому снежку, хрустящему, как огурец. Великая блудница засунула деньги куда-то под юбку, в панталоны.
Затем мальчик в башлыке, молочник, наливал у печки молоко в голубую саксонскую вазу. Великая блудница хитро говорила:
— За деньгами завтра придешь. Нету. Завтра об эту самую пору, утречком. Нету денег, видишь? Ну да, об эту пору самую. За мною две кружки.
Мальчик потоптался, высморкался в передней и, громыхнув листовой жестью, ушел.
Вдруг над самым моим ухом зазвенел телефон. Вера Трофимовна вихрем, подобрав юбки и мелькая голыми ногами, ринулась через аппараты, через пламя и змеевики к моему сундуку. Надо мною висел телефон. Она схватила трубку и всунула ее в растрепанные патлы возле уха. Ее глаза были круглы и толстые губы закушены. Она навалилась на меня локтем и, нервно почесывая затылок, сказала:
— Эгэ? Алло! Да, да…
Затем она завопила в трубку:
— Иван Платоныч, это невозможно! Это черт знает что! Это вас не касается… Что? Извините меня, пожалуйста, но этот номер не пройдет… — И пошла, и пошла. Она истерически хохотала и ругалась басом. Она вся наливалась кровью и багровела. Ее крутые глаза круглели и пучились.
Она повесила трубку и стала носиться по комнате, на ходу одеваясь, подмазывая губы и ресницы, прихлебывая из саксонской вазы молоко, суя щипцы в горящий примус и в рот — хлебный мякиш. При этом она говорила, говорила и говорила. Она была взбешена. Она выболтала мне все. Звонил экс-муж, Иван Платоныч. Негодяй. Мошенник, но с большими связями в милиции. Взяточник. Композитор-скрябинист. Они разводились. Он жил на стороне. Они делили обстановку и вещи. Она дала ему какие-то брильянты, лишь бы он убрался из квартиры. Он съехал. Теперь он шантажирует. Скотина. Кроме того (глаза круглы и голос — конспиративный хрип)… он влюблен. В нее. Он ее домогается. Он будет стрелять. Это ужасный человек. Демонический. Швейная машинка ее, а не его. Она это так не оставит. Он дьявольски ревнив. Он подглядывает за ней в окна. Каждые полчаса он звонит. Он умоляет, грозит, хохочет. У него связи. Его знают все, он злой гений. Он «засыпет» самогон. Он такой! Он все может. Ах, он сейчас придет!
— Ты его сейчас увидишь, Ивана Платоныча. (Это мне. На «ты».)
А карлик лежал на диванчике и, задрав ноги, ждал, когда дадут «подшамать», перелистывая с голодным отвращением «Миги» Брюсова.
Я умывался в ванной. Крысы пищали за трубами. Полотенца не было. Утирался портьерой.
Иван Платоныч пришел, несмотря на восемнадцать градусов холода, в черном испанском плаще и сомбреро. Его лицо и длинный голубой нос в совокупности были похожи на тот нарисованный указательный палец, под которым обычно пишется: «Мужская уборная — первая дверь налево». Он держал во рту длиннейшую английскую трубку, пустую, впрочем. Он был высок и тощ, как антенна. С первого взгляда было ясно, что его пожирают высокие страсти и низкие инстинкты. Он криво и загадочно улыбался. Он сел за стол, щедро расставил ноги и процедил сквозь зубы:
— Ну-с, Вера Трофимовна… Как мы вырешим вопрос относительно швейной машинки и бронзовой девочки? А? Ну что, ваша фабрика работает?
Великая блудница заметалась, прыгая по золоченым стульям и саксонским вазам. Она кричала, топала ногами, швыряла небьющимися предметами и закусывала губу. Было видно по всему, что она дьявольски боится своего демонического «экса», у которого связи.
Он ледяным тоном требовал мебель. Она исступленно кричала о брильянтах. Он язвительно спрашивал о ее любовниках. Она швырялась стоптанным башмаком с левой ноги. Он грозился съездить к Бондарчуку. Она вопила: «Вы этого не сделаете!» Он цедил: «Отдайте швейную машинку». Тогда начались счеты. Оба они понижали голос и шипели друг против друга, как две змеи. И вдруг из этого шипа взвивалось ракетой: «Ах! Если на то пошло, то кто крал дрова? Кто достал ордер на красный шкаф? Кто?..» — и дальше свистящим шепотком о браслетах.
Очевидно, в свое время «было дело под Полтавой».
Она рванула ящик стола и бросила ему в лицо браслет. Он повертел его, посмотрел пробу.
— Мерси, — сказал он. — За вещами я пришлю завтра, но, может быть, ты одумаешься?..
Она стояла перед ним — руки в боки — в позе разгневанной царицы.
— Композитор! Негодяй! Оставьте меня в покое. Увозите свои вещи к черту!
Он закутался в плащ и исчез, хрипя пустой трубкой.
Потом она металась по комнатам, надевая лиловую шубу и рыжую папаху. Она кричала:
— Я этого не оставлю! Я поеду к Бондарчуку! Я ему подложу свинью!
Бондарчук был участковый надзиратель и жил рядом.
Как только она вылетела, карлик полез искать «шамовки». Он набивал рот холодной кашей и сахарным песком. Он блистал стальными очками и сокрушенно крутил мышиной своей головой.
— Ахти, какие неприятности! И вот всегда так. Взалкал я от всего этого… Да, о чем бишь я? Да: кристальные люди. Оба. Он — совершенно изумительный композитор. Маг. Вы не знаете его Прелюдии смерти? Напрасно. Не от мира сего человек. Она тоже изумительная. Блудница. Грешница. Скупа-с. Скупа-с. Но…
И, закатив глаза, он рассыпался мелким горошком.
«Черта теперь меня отсюда выселят!» — весело подумал я и пошел к писателю за вещами.
В этот твердый, белый день я увидел Москву опять. Зеленые лошади летели над портиком, вытянув классические ноги и шеи. Хрипели автомобили. Трамваи сыпали искрами. Летел снег. Папиросники продавали «Иру» и «Яву». Зеленая черепица Китай-города и круглые Никольские ворота двигались панорамой через синие стекла пенсне, над лавочкой оптика. Кремль стоял грудой золотых яблонь и шахматных фигур. Василий Блаженный распустил свой павлиний хвост. Мосты на Москве-реке были в толстом снегу. Свистели полозья. Фыркали лошади. Стеклянными громадами вставали тресты. В частнокоммерческих магазинах висели бревна осетров, которые сочились желтым жиром. Восковые поросята лежали за стеклами Охотного ряда. Перед «Рабочей газетой» зеваки читали «Крокодил».
Да, это была Москва. Это был нэп.
Снег мелко стриг множество заводных людей. Которые были с портфелями, которые без портфелей.
Я втащил свою корзинку в комнату, отодвинул примусы в угол, застелил сундук простыней и сказал:
— Довольно бродячей жизни. Здесь я буду жить долго. Черта вы меня выселите отсюда!
1924
Товарищ Пробкин*
Я тяжело вздохнул:
— Так-то, брат Саша! Засосала коммунистов мелкобуржуазная мещанская стихия. Канарейки. Пеленки. Суп с лапшой, голубцы и клюквенный кисель, одним словом… Такие-то дела.