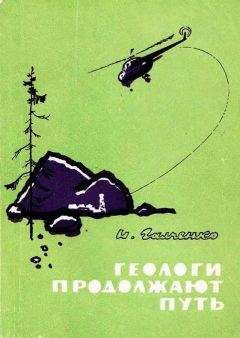Виталий Сёмин - Сто двадцать километров до железной дороги
Председатель сельсовета пришел к нам в школу попросить, чтобы кто-нибудь из учителей нарисовал белой краской трафаретки на бортах колхозных грузовиков. Обыкновенные трафаретки: ЧШ 45-61. Или еще какие-то. К тому времени я уже привык, что уроки, которые я даю в школе и за которые, собственно, и идет мне зарплата, лишь ничтожнейшая часть моих обязанностей. Но трафаретки на бортах грузовиков?! Я разозлился и отказался. Председатель удивился и обиделся. Главное — удивился.
— Зачем вас государство учит? — спросил он. — Вы должны свои знания на пользу приносить. — А потом сообщил: — Галина Петровна рисовала трафаретки.
Пришлось мне подтягиваться до уровня Галины Петровны, к тому же я вспомнил, что Семен и его дружки-шоферы — мои приятели. Отправился на колхозный двор и целый день мазал борта грузовиков белой краской. На следующий день краску смывали: оказывается, я не выдержал размеров букв, утвержденных автоинспекцией. Шоферы сами взялись за кисти и сделали прекрасные трафаретки.
И каждый раз мне приходилось тянуться до того уровня, который хуторяне уже отметили по Галине Петровне для хороших преподавателей.
…Возвращаюсь я из райцентра в хутор в воскресенье вечером. Днем торчу в книжном магазине в библиотеке, обедаю в чайной, смотрю в клубе на шестичасовом сеансе кинофильм и часам к восьми выхожу домой. Я не жду попутной машины. Догонит — по дороге подберет, не догонит — так или иначе я должен быть завтра на уроках.
Райцентр не город: едва выйдешь за околицу — уже темнота. Оглянешься — еще светят лампочки без абажуров на крайних уличных столбах, но это не ободряющий свет (уходишь ведь от него!), в степи не очень в него верится. И правда, оглянешься минут через пятнадцать — темным темно. И остаешься на всю степь со своей дорогой. Вернее, с куском дороги, сереющим на несколько метров вперед. Это если небо чистое. Если же облака — дороги совсем не видно, ее нужно щупать ногами, ощущать. Сделаешь несколько шагов по прямой и сдвигаешься к кювету, проверяешь, не сбился ли в сторону, в степь. Если кювет обозначен четко, успокаиваешься. Но если сглажен, если его совсем нет, долго ищешь новые ориентиры, границы невытоптанной травы.
В начале осени по-над дорогой на Черные земли шли бесконечные отары овец. Овец сопровождали огромные, свирепого вида и необыкновенной бдительности собаки. Заслышав мои шаги, они с хрипом летели от ночующего лагеря к дороге и в темноте, где-то рядом со мной, сипели от избытка ненависти ко мне. Отвязавшись от собак, я всякий раз удивлялся, почему они меня не растерзали. Теперь отары уже прошли, и на все восемнадцать километров между Ровным и Большим Ровным тишина. Абсолютная тишина. С такой тишиной невозможно освоиться. Кажется, что она кому-то зачем-то нужна, что она только затаилась, что это вовсе не от совершенного покоя. И чем больше ты углубляешься в эту ватную, приглушенную низким облачным слоем тишину, тем больше в тебе самом все напрягается, деревенеют руки и плечи, мускулы шеи, а в груди, под сердцем, образуется пустота, в которую сердце время от времени обрушивается. В темноте не определишь, сколько прошел, сколько еще осталось… Подъем, спуск, подъем, спуск. Спуски и подъемы пологие, заметить их не так-то легко. Лишь на полпути спуск крутой — дорога спускается в балочку, на дне которой сейчас стоит вода. Вода потихоньку начала накапливаться здесь дней двадцать назад и теперь уже покрывает метра четыре дороги. Грузовики эти четыре метра берут с разгону, не всегда, впрочем, благополучно. Мне же в темноте приходится перебираться через балочку медленно-медленно. В пол- и даже в четверть шажка. Вода обжимает мои резиновые сапоги у самого их горла — собьешься с узкой подводной тропинки и беги скорее на берег, в сапогах полно.
Я иду сквозь кромешную темноту час, другой, теряю дорогу, опять нахожу и все вслушиваюсь и вслушиваюсь. А на ум приходят истории, которые днем выглядят смешными и неправдоподобными, а сейчас легко объясняются и этой темнотой и этой тишиной. Например, история с тем самым председателем сельсовета, который заставлял меня рисовать трафаретки на бортах грузовиков. Фамилия его Натхин (распространенная в хуторе фамилия). Здоровый парень моего возраста, весь какой-то каменный. Не мускулистый («мускулистый» говорят о спортсменах), а именно каменный. Кажется, о плечо его, о спину можно ушибиться. И телом своим он как будто плохо владеет — оно у него не гибкое, не плавное. В сорок третьем году Натхину было шестнадцать лет, однако его взяли в армию. Метрика у парня куда-то затерялась, а на медкомиссии решили, что если этому здоровяку не все девятнадцать, то восемнадцать уж во всяком случае. И пошел Натхин воевать. Неплохо воевал, дошел до Вены и на Дальнем Востоке побывал, лежал в госпиталях, а когда война закончилась, решил, что даже к лучшему, что врачи на медкомиссии ошиблись: много повидал и жив остался. После войны долго служил — всё не отпускали из армии — и за границей, и у нас, и только через восемь лет вернулся домой (мог бы и не возвращаться, но тяга к селу у тех, кто любит село, так же сильна, как и тяга к городу у тех, кто любит город). С тех пор он председатель сельсовета. Три года назад женился, жену взял из Ровного, но прожил с ней не больше двух недель. Потом посадил ее, плачущую, на подводу и отвез назад, в Ровное. Мать Натхина рассказывала соседкам, что ее невестка… ведьмачила. Натхин не пошел против матери. Натхина вызвали в Ровное, в райком комсомола, стыдили, ругали — он стоял на своем: не ваше дело, жить с женой не буду. Тогда его с позором исключили из комсомола. Потребовали у Натхина комсомольский билет. А билет у него пробит пулей и полит собственной кровью. Натхин и показал его в комитете.
— Вот, — сказал он, — видите? Возьмите, кто смелый. И себя и вас убью.
Возможно, у Натхина все-таки отобрали бы комсомольский билет, если бы в комитете сгоряча не перегнули палку. Дошла до области история с политым кровью комсомольским билетом, и Натхина восстановили. Дали ему выговор, дали выговор секретарю райкома комсомола (потом его переизбрали, на его место выдвинули Галину).
Я всегда пропускаю момент, когда вхожу в хутор. Первые хуторские дома стоят далеко от дороги, в темноте их не видно. Минут пять я иду по хутору, еще не зная, что иду по хутору. И вдруг упираюсь в знакомый деревянный мостик без перил. Еще несколько шагов — и я начинаю различать хаты, подошедшие близко к дороге, звуки, шорохи, которых нет в степи, даже чуть более теплое, сонное движение воздуха. Перейдя мостик, я сразу, за все восемнадцать километров, устаю и едва волочу ноги.
Тут я вспоминаю, что опять не встретил в Ровном Зину, учительницу, свою землячку, с которой познакомился и поругался на конференции. Дома у себя в хате, прежде чем заснуть, я еще раз подумал об этом.
Вспомню я и свой разговор с Галиной, и то, как она под конец ответила на все мои атаки. То есть отвечала-то она на одну из них, но это был как раз тот ответ, которого я и добивался от нее, который мне и нужен был, хотя, может быть, она и не знала об этом.
— Ну что Сокольцов?! — сказала она. — Чего ты кричишь? Ты знаешь, какая зарплата у заведующего районо? На треть меньше того, что ты получаешь. Какой квалифицированный педагог на нее пойдет? Замену ему давно ищут. Он и остается на этой должности, пока замену не найдут. Но замену-то найти нелегко.
Нелегко. Конечно, нелегко. Все нелегко. Но понятно.
2
А утром опять на уроки.
В шестом классе — литературное чтение. Урок, который люблю я и который, кажется, уже любят ребята. Среди урока стук в дверь. Дверь открывается широко, по-домашнему.
— Покличьте Пашку Лободыху! — На пороге стоит тетка с узелком.
— Что вы? — спрашиваю.
— Мени Пашку Лободыху.
— Случилось что-нибудь?
Ребята затихли. Смотрят на меня. Что я скажу. Притихла и Паша Лобода. И только тетка не чувствует необычности ситуации.
— Та ни. Мени Пашку Лободыху.
— Паша, — говорю я, — выйди к маме, пусть она тебе скажет, что ей нужно, а потом ты ей объяснишь, что прерывать урок можно только по важному делу.
— Не пиду я! — вдруг вспыхивает Паша. — Нехай они подождут.
Теперь удивляется Лобода-старшая.
— Та я ж тебе поснидать принесла! — показывает она на узелок.
— Да уходите вы, мамо! — заливается краской Паша. — Нельзя на урок.
— Та шо ж тут такого! Бачь! — не может прийти в себя Лобода-старшая.
— Иди, иди, — выпроваживаю я Пашу, — и не кричи на мать, а объясни ей хорошенько.
Паша вскакивает, ракетой пролетает мимо меня.
— Ходимьте! — бросает она матери. Дверь закрывается, и все мы слышим, как Паша отчитывает мать: — Як малэ, як той…
Паше не хватает слов. Она, наверно, боится, что тут, в классе, за ее спиной, смеются сейчас и над ней, и над ее матерью. В классе действительно смеются. А я не без удовлетворения думаю, что довольно быстро научил ребят считаться со школьными правилами. Не такое это легкое дело, если учесть, что, скажем, Ивану Антоновичу оно никак не дастся. На уроке и после урока у Ивана Антоновича бывает такое оглушенно-вялое лицо, какое я подметил у людей, стоящих рядом с вибратором, который вколачивает в землю стальной шпунт. Или еще у звукооператоров радиоцентра — нас, студентов, водили туда на экскурсию. Лицо, притерпевшееся к грохоту, к потоку звуков, которые не направить, не остановить. Однажды я в учительской проверял тетради и, привлеченный шумом, заглянул в класс, на урок к Ивану Антоновичу.